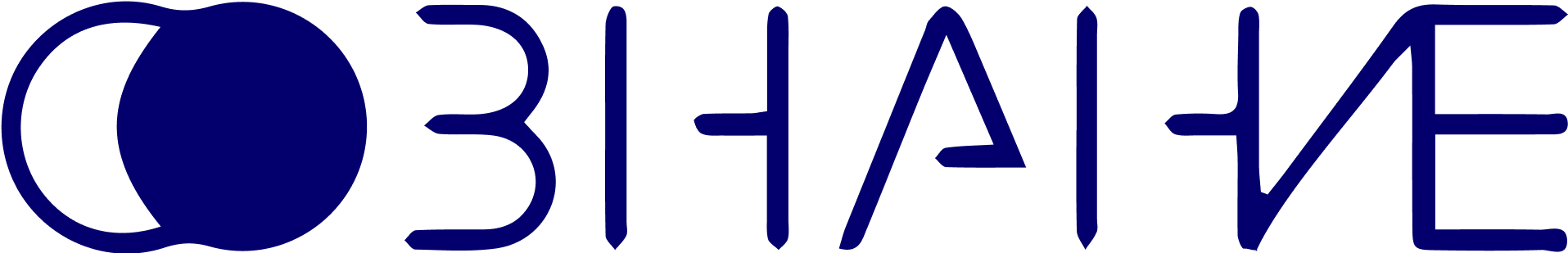Теория де Мази и ее применение в клинической практике
Обзор теории де Мази, её основных положений и применения в клинической практике, включая диагностику и терапевтические стратегии при различных психических расстройствах.
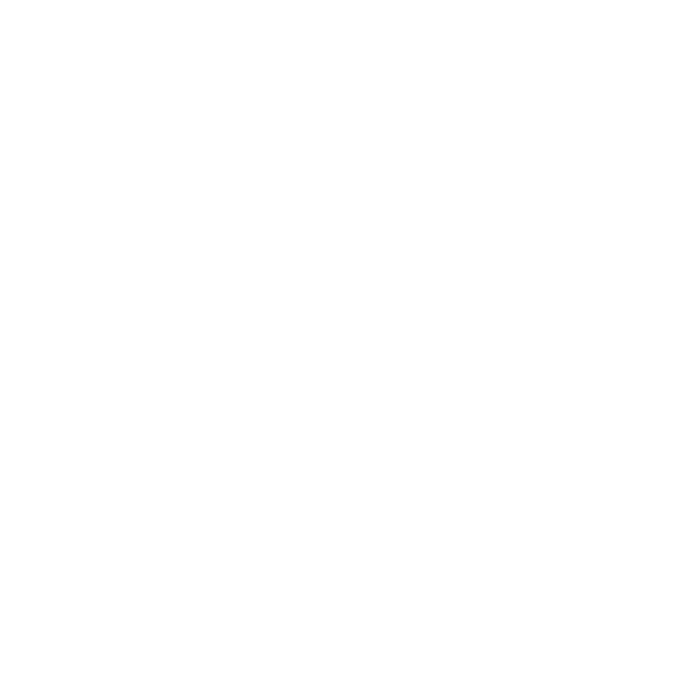
Лившиц Наталья Дмитриевна
Психоаналитик, Основательница центра, Кандидат психологических наук, доцент
Пациентов, создающих немалые трудности для классического психоаналитического лечения, в наших кабинетах становится все больше. Страдая от явно психотических или более туманных симптомов при резком сужении жизненных перспектив, эти пациенты, к сожалению, явно не получают пользы от месяцев и лет работы в традиционной парадигме, тем не менее снова и снова появляясь у нас в офисах и взывая к нашему теоретическому и практическому профессионализму.
Теория Франко де Мази заявляет себя как подход к пониманию происхождения и развития психоза. Она формировалась в течение десятилетий его психоаналитической деятельности, в результате которой появилась теория психического отчуждения. Использование этого понятия, с нашей точки зрения, действительно позитивно меняет работу с психотическими пациентами, и, кроме того, как я постараюсь показать, может помочь найти подход к непсихотическим пациентам, в структуре психики которых психическое отчуждение также существует, но требует тренированного данной теорией уха, чтобы его заметить и работать над ним.
Теория Франко де Мази заявляет себя как подход к пониманию происхождения и развития психоза. Она формировалась в течение десятилетий его психоаналитической деятельности, в результате которой появилась теория психического отчуждения. Использование этого понятия, с нашей точки зрения, действительно позитивно меняет работу с психотическими пациентами, и, кроме того, как я постараюсь показать, может помочь найти подход к непсихотическим пациентам, в структуре психики которых психическое отчуждение также существует, но требует тренированного данной теорией уха, чтобы его заметить и работать над ним.
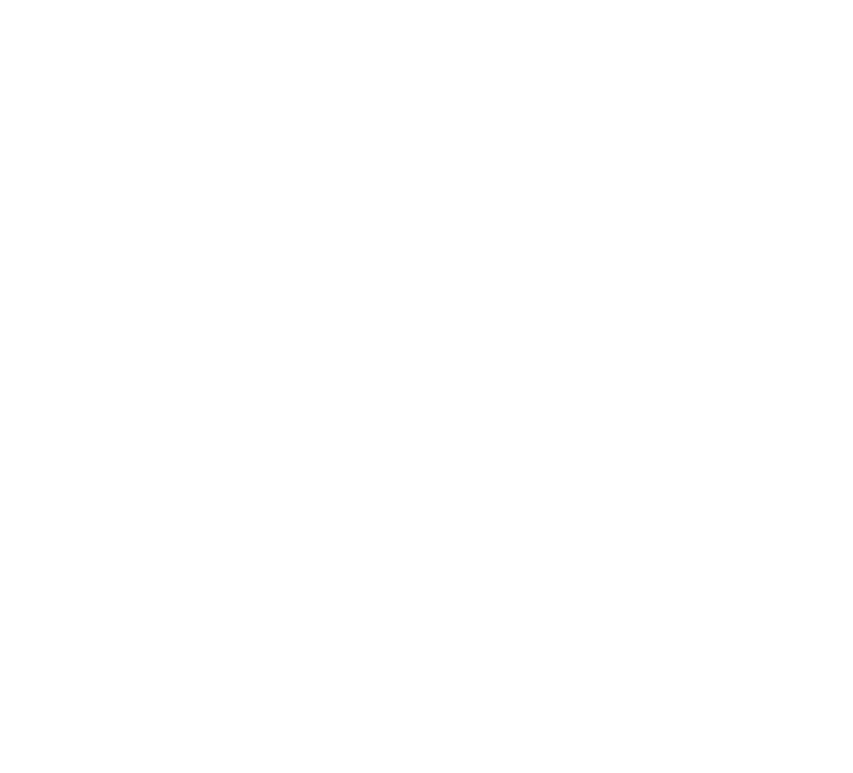
Мягкий, глубокий подход: верните энергию, настрой и жизненный интерес. Работа с травмами, депрессией, усталостью. Психоаналитик Наталья Лившиц. Премия Сберздоровья 2024 по отзывам клиентов.
Начну прояснение психического отчуждения и его связи с психозом с напоминания, что мы отталкиваемся от понимания психоза как психического заболевания, при котором психическая деятельность не соответствует окружающей действительности, отражение реального мира в сознании резко искажено и проявляется в нарушениях поведения, появлении несвойственных в норме патологических симптомов и синдромов - галлюцинации, бреда, выраженных двигательных расстройств и серьезных нарушений настроения. Де Мази фокусируется не на маниакально-депрессивных психозах, которые позволяют пациентам после разрешения кризиса функционировать в целом как и до начала болезни, а на тех психозах, которые включают в себя галлюцинации и бред. С его точки зрения, эти психозы имеют иные причины и происхождение, а выздоровление происходит «с дефектом», то есть внутри остается психотическое ядро, отрезанное от сознания, представленное в смягченной форме, но продолжающее угрожать пациенту даже в фазе реинтеграции.
Если говорить об изучении таких психозов в рамках психоанализа, то надо напомнить, что понятия классической психоаналитической теории, полезные для лечения неврозов – бессознательное, внутренний конфликт, вытеснение, интерпретация - оказались безразличными или почти безразличными к функционированию психики психотических пациентов. Так что, начиная с З.Фрейда, в психоаналитических текстах можно встретить попытки описать психотические явления и сам психоз с помощью иных понятий или моделей.
Вот и Де Мази пишет, что происхождение и развитие психоза трудно адекватно описать без учета психопатологической структуры, которая его производит – он называет ее «психическое отчуждение». Тем самым Де Мази претендует на обнаружение новой болезнетворной сущности в психике, которая раньше ускользала от теории, не давая возможность правильно представить суть процессов при психозе и правильно воздействовать на него.
На мой взгляд, для начала это утверждение нуждается в критической проверке - действительно ли это новое понятие, меняет ли оно взгляд на суть психоза и подход к его лечению, как утверждает автор или все же нет.
Основной вопрос для каждого психоаналитика, интересующегося психозом - это вопрос о том, как устроена внутренняя реальность при психозе, чем она отличается от внутренней реальности хотя бы невротика, как она производит такие резкие искажения в восприятии и оценке внешнего мира. Фрейд дал направление этим практически важным размышлениям, когда указал, что внутренняя психическая реальность часто служит защите от невыносимой бессознательной психической правды.
В своей работе «Невроз и психоз», он пишет, что в случае психоза в результате невыносимой фрустрации желаний и отказа принимать внешнюю реальность Я создает себе новый внешний и внутренний мир, служащий удовлетворению желаний Оно.
Устройство внутреннего мира при психозе, с этим согласны большое количество психоаналитиков, проницательно описано в трудах Мелани Кляйн. Она предположила, что в этом внутреннем мире все или почти все внешние предметы и объекты окружающего мира воспринимаются как прямые эквиваленты объектов убийственных фантазий, обладая свойством символического равенства с телом матери, отцовским пенисом в нем, собственными экскрементами и т.д. Результатом является спутанное состояние, грубые нарушения мышления, восприятия и переживания. Кляйн пишет об уходе младенца в мир галлюцинаторного удовлетворения, в котором за счет работы описанных ею механизмов проективной идентификации, отрицания, всемогущего контроля и расщепления галлюцинируется пренатальное состояние, в котором нет тревоги и преследования.
Вслед за Кляйн У.Бион, также изучая психотическую реальность, указывал, что в основном она является производной от чрезмерной работы механизма проективной идентификации и атак на связь. Он пишет, что в результате работы этих механизмов пациент застает себя окруженным странными объектами, соединяющими части объектов и части личности. «Такое заполнение части личности наполненным, но контролирующим объектом вызывает у пациента ощущение, что слова являются именно тем, что они означают, и тем самым создают описанную Х.Сигал путаницу из-за того, что пациент отождествляет, но не символизирует».
Г.Розенфельд, описывая нарциссическую злокачественную психическую организацию, функционирующую наподобие мафии, Дж. Стайнер, который описал психические убежища, по сути, тоже говорят о психозе, правда, инкапсулированном.Напомню, что, например, Стайнер видит патологическую психическую организацию как совокупность психотических и перверсивных объектных отношений, защит и фантазий, благодаря которым можно укрыться от столкновения с реальностью, где фантазия и всемогущество могут существовать беспрепятственно, где все дозволено. По мнению Стайнера, некоторые пациенты зависят от такой организации, защищающей их от примитивных состояний фрагментации и преследования, или боли и вины при укреплении контакта с внутренней и внешней реальностью.
Таким образом, спутанность Я и объекта, чрезвычайно высокий уровень тревоги, персекуторные бессознательные фантазии, чрезмерное использование примитивных защитных механизмов, господство принципа символической эквивалентности, всемогущество, мгновенность удовольствия – вот основные черты внутренней реальности при психозе, и такое понимание принимается очень многими психоаналитиками.
Кроме этого, все или почти все согласны, что психотическая реальность практически всегда сосуществует с иной, эмоциональной реальностью, основанной на большем контакте с внешним миром.
Еще Фрейд указывал на это: «Проблема психоза была бы проста и ясна, если бы отход Я от реальности мог бы произойти полностью. Но, похоже, это встречается лишь в редких случаях, а возможно, вообще никогда не происходит. Даже о состояниях, которые так далеки от действительности внешнего мира, как то: галлюцинаторная спутанность сознания и бессвязность мыслей (аменция) — от больных после их выздоровления узнаешь, что и во время болезни в уголке их души, как они выражаются, скрывался нормальный человек, который, словно сторонний наблюдатель, следил за путаницей, которую вызывала болезнь». В работе «Расщепление Я в процессе защиты» он еще раз обращает внимание на возможность одновременного и принципиально разного обращения с тревогами со стороны Я: «Я развивает страх кастрации, формируя симптом, и в то же время Я отрицает кастрацию, галлюцинируя пенис там, где восприятие его не находит, что позволяет продолжать реализовывать желание ОНО».
Похожим образом для Мелани Кляйн параноидно-шизоидная и более высокоорганизованная депрессивная психические позиции являются потенциально сосуществующими модусами психического функционирования, а не навсегда сменяющими друг друга фазами развития, так что включение более примитивной параноидно-шизоидной реальности наряду с депрессивной всегда возможно в тех или иных обстоятельствах.
Невозможно не вспомнить в этой связи, конечно, и классическую работу У.Биона «Отличие психотической личности от непсихотической», в которой он пишет, что контакт личности с реальностью никогда не теряется, но лишь маскируется преобладающей в мыслях и действиях всемогущественной фантазией, которая стремится разрушить реальность либо стремление ее понять.
Как мы видим, в этих работах описывается внутренняя реальность психоза, но вопрос о том, как он производит галлюцинации и бред, авторами не ставится, в отличие от Де Мази. Он подчеркивает, что его интересует психотическая реальность, или психотическая часть личности как то, что производит психотические симптомы в психиатрическом смысле слова, а не теоретические размышления о примитивных защитных механизмах, называемых психотическими. Де Мази аккомодирует в своей теории эти представления о содержании фантазий и образов психотической реальности, как и представления о сосуществовании двух внутренних реальностях – психотической и непсихотической. Он, однако, идет дальше упомянутых авторов, утверждая, что психотическая реальность отделяется от непсихотической благодаря механизму диссоциации, создавая область психического отчуждения, ухода в фантазию, в котором главенствуют более примитивные – сенсорные – законы психической жизни, из которых и происходят нео-сенсорные психотические впечатления.
Диссоциацию впрямую связывал с психозом еще Винникот, на которого часто ссылается Де Мази. В своей работе «Сны, фантазии и жизнь: история первичной диссоциации» Винникот описывает мир фантазирования и мечтаний, который отделен, диссоциирован от реальности сновидений, фантазий и реальной жизни. В этом мире, как он пишет, все происходит молниеносно или не происходит вообще, все сразу, одновременно и непрерывно. В этом мире отсутствует принцип реальности, не требуется проявлений способностей, встреч с фрустрациями, что приводит к деструктивным, разрушительным последствиям для способностей и жизни в целом, однако создает внутреннее удовлетворение, чувство всемогущества и покой. Винникот опирается в понимании психотической реальности и диссоциации на свои идеи о первородном мире внутренней реальности младенца, являющимся иллюзорно, а, вернее, галлюцинаторно всемогущим – «В начале адаптация матери к ребенку должна быть почти абсолютной, без нее ребенок не сможет начать развивать способность к переживанию отношений с внешней реальностью; вначале мама на все 100% дает ему замечательную возможность иллюзии, что ее грудь является частью ребенка. Переходное пространство Винникота, как мы помним – это пространство, возникающее не сразу, но сочетающее в себе и первичную креативность ребенка, и восприятие объектов, основанное на тестировании реальности. Он пишет: «Патология в области феномена перехода возникают при фрустрации, не соответствующей способности ребенку к выдерживанию сепарации и проявляются в гиперболизации использования переходного объекта как элемента отрицания угрозы потери объекта».
Таким образом, мы получаем представление о диссоциации как о механизме, разделяющем внутренние реальности на две – одну, основанную на всемогущем контроле и отрицании, наполненной явлениями, описанными Кляйн, Бионом и Розенфельдом и другими представителями школы объектных отношений, и другую, эмоциональную реальность, основанную на тестировании реальности и постепенном развитии в контексте отношений с первичными объектами.
Опираясь на все эти идеи и развивая их, Де Мази выстраивает свою теорию психоза как психической патологии, коренящейся в психическом отчуждении, возникающем вследствие работы диссоциации. Он пишет, что триггером психоза является раннее и пролонгированное разрушение базисных процессов в первичных эмоциональных контактах. по Де мази, психоз тесно связан с ранней деструкцией эмоциональных функций и когнитивных процессов. На основе этого возникает измененное восприятие внутренней психической реальности, которая диссоциирована и фантазийна.
Его идеи можно резюмировать следующим образом:
С точки зрения Де Мази психоз возникает не из чрезмерной деструктивности, а из-за склонности к изоляции от мира отношений в диссоциированном мире воображения. Это имеет деструктивные последствия, поскольку уход в диссоциированный мир требует изменения аппарата мышления, что потом очень трудно изменить, и что и приводит к психическому заточению.
Де Мази постоянно подчеркивает этот факт, ставя его во главу угла техники своей работы – все время обнаруживать для пациента и разьяснять ему, как работает и какие последствия имеет жизнь в психотической реальности. В этом его подход отличается от подхода всех прочих авторов, которые пытаются разработать технику для изменения самих особенностей психотического функционирования, считая, возможно, поскольку психотическая реальность является более злокачественной, она и должна быть подвергнута изменению, и что интеграция с остальной частью личности произойдет сама собой. Де Мази же, напротив, фокусируется на усилении наблюдающего эго, ставя целью вместе с пациентом взять под контроль психотическую часть личности, которая соблазняет пациента мощью мгновенного удовлетворения и всемогущества.
Де Мази подчеркивает, что зачастую психотик скрывает свое психотическое отчуждение, поскольку считает его правильным не хочет открытого обсуждения. – это более плохая ситуация чем та, в которой пациент приносит свою психотическую часть для обсуждения. Проблема в том. Что, как пишет в одной из своих работ Де Мази, часто пациент ее сознает, но не осознает – она является эго-синтонной. Как нередко говорит одна из моих пациенток, верящая в приметы, остерегающаяся рассказывать кому-либо о своих планах, чтобы не сглазили, а также искренне ненавидящая людей, убежденная, что она должна себя защищать от нападения окружающих: вот здесь меня лечить не надо, слышите! Я в этом убеждена и не собираюсь это с вами обсуждать,– ярость и тревога, но и высокомерие, сопровождающие попытки обсуждения ее установок, могут быть свидетельством того, как боится лишиться пациент части себя, которая дает ему чувство всемогущества и контроля и удовольствия, но также и защиты.
Де Мази пишет, что этот сенсорный психопатологический процесс, будучи однажды установленным, производит такие психические модификации, которые трудно развернуть вспять – это не подавление, не расщепление, а разрушение средств символического познания эмоциональной реальности, что не дает возможности учиться на опыте.
Как мы можем оценить теорию Де Мази и ее практическую пользу?
Мне кажется, что он четче, чем другие авторы, подчеркивает параллельность двух модусов функционирования – психотического и не психотического, указывая на механизм диссоциации, который делает бессмысленным символические интерпретации и требует иных технических подходов к лечению.
Далее, де Мази собирает воедино разрозненные описания психотического неомира – его принципа символической эквивалентности, всемогущества, мгновенности удовольствия, соблазнительности, замкнутости, недоступности изменениям, оторванности от эмоциональной реальности – опираясь на эти описания, можно достраивать дискурс пациентов, который без таких подсказок иногда не понятен, если в голове аналитика только традиционные, и зачастую разрозненные взгляды на внутреннюю реальность психоза.
Его описание ума как не думающего, в видящего и слышащего органа соответствует описаниям младенческого мышления у Кляйн и особенно Ханны Сигал в их работах по символообразованию, однако Де Мази указывает на необратимость однажды случившихся патологических изменений и трудности терапевтического совладания с ними.
Как мне кажется, теория Де Мази безусловна полезна в работе с психотическими пациентами. Мой собственный опыт, связанный со знакомством с ней, раз за разом показывает, что если в работе с психотическим пациентом замечать – а и это не всегда просто в силу естественности для пациента тех или иных его проявлений, превращающих их в слепое пятно, брать смелость и фокусировать его внимание на удовольствии, которое он испытывает, воспринимая и оценивая реальность странным, причудливым для меня образом, и если указывать ему на то, что его дискурс наводит меняна мысли о существовании какого-то другого, непонятного мне мира, если просить его объяснить свой мир и сопоставлять его с моим, то всегда это дает терапевтический эффект – пациент задумывается и становится возможной работа над этим.
Говоря о применении теории Де Мази, я хотела бы сказать, что мое знакомство с ней заставило меня внимательней слушать других пациентов – особенно тех, которые не кажутся психотическими, но которые долго находятся в работе, застряли в продвижении, и чья жизнь не улучшается. Конечно, можно мыслить категориями негативной терапевтической реакции, травматизации, трудностей сепарации и чем-то еще, однако мой опыт показывает, что использование категории психического отчуждения, проверка дискурса пациента на предмет обнаружения у него скрытых диссоциированных психопалогических структур по типу отчуждения\ухода в фантазию может дать новый импульс в работе и изменить течение лечения. Другими словами, теория Де Мази позволяет также распознать у непсихотических пациентов отчужденные психические кластеры, которые живут по крайне примитивным законам и которые существенно влияют на качество жизни, не давая пациентам достигать своих целей и заставляя страдать. Проблема в том, что они зачастую не замечаются пациентами, да и психоаналитиками.
Понятие ухода в фантазию знакомо нам еще с трудов Фрейда, который в работе «Художник и фантазирование»1908 г. пишет, что движущими силами мечтаний являются неудовлетворенные желания (эротические или честолюбивые): «каждая фантазия… — это осуществление желания, исправление неудовлетворяющей действительности».
Он пишет: «Вообразите случай с бедным и осиротевшим юношей, которому вы сообщили адрес работодателя, у которого он, вероятно, сможет получить должность. По дороге туда он, скорее всего, погрузится в грезы соответственно своему положению. Содержание этой фантазии может выглядеть примерно так: он получает должность, приходится по душе своему новому начальнику, становится необходимым для дела, входит в семью хозяина, женится на его пленительной дочке, а позднее сам становится во главе как совладелец, а потом и как наследник дела. И сверх того мечтатель восполняет себе то, чем обладал в счастливом детстве: хранительный кров, любящих родителей и первые объекты своей сердечной привязанности. На этом примере вы видите, как желание использует сиюминутный повод, чтобы по образцу прошлого начертать эскиз будущего.
Франко Де Мази в своей теории ставит своей целью описать тот вид ухода в фантазию, которое с течением времени, будучи никак не корректируемым, дает начало психопатологической структуре – он называет это «психическое отчуждение - на основе которой в конечном счете и развиваются бредовые состояния. В этом он следует за Фрейдом, который писал: «преобладание фантазий и достижение ими всемогущества создают условия для погружения в невроз или в психоз; мечтания же являются ближайшими душевными предшественниками симптомов недуга, на который жалуются наши больные. Здесь разветвляется широкая окольная дорога к патологии…»
Если говорить об изучении таких психозов в рамках психоанализа, то надо напомнить, что понятия классической психоаналитической теории, полезные для лечения неврозов – бессознательное, внутренний конфликт, вытеснение, интерпретация - оказались безразличными или почти безразличными к функционированию психики психотических пациентов. Так что, начиная с З.Фрейда, в психоаналитических текстах можно встретить попытки описать психотические явления и сам психоз с помощью иных понятий или моделей.
Вот и Де Мази пишет, что происхождение и развитие психоза трудно адекватно описать без учета психопатологической структуры, которая его производит – он называет ее «психическое отчуждение». Тем самым Де Мази претендует на обнаружение новой болезнетворной сущности в психике, которая раньше ускользала от теории, не давая возможность правильно представить суть процессов при психозе и правильно воздействовать на него.
На мой взгляд, для начала это утверждение нуждается в критической проверке - действительно ли это новое понятие, меняет ли оно взгляд на суть психоза и подход к его лечению, как утверждает автор или все же нет.
Основной вопрос для каждого психоаналитика, интересующегося психозом - это вопрос о том, как устроена внутренняя реальность при психозе, чем она отличается от внутренней реальности хотя бы невротика, как она производит такие резкие искажения в восприятии и оценке внешнего мира. Фрейд дал направление этим практически важным размышлениям, когда указал, что внутренняя психическая реальность часто служит защите от невыносимой бессознательной психической правды.
В своей работе «Невроз и психоз», он пишет, что в случае психоза в результате невыносимой фрустрации желаний и отказа принимать внешнюю реальность Я создает себе новый внешний и внутренний мир, служащий удовлетворению желаний Оно.
Устройство внутреннего мира при психозе, с этим согласны большое количество психоаналитиков, проницательно описано в трудах Мелани Кляйн. Она предположила, что в этом внутреннем мире все или почти все внешние предметы и объекты окружающего мира воспринимаются как прямые эквиваленты объектов убийственных фантазий, обладая свойством символического равенства с телом матери, отцовским пенисом в нем, собственными экскрементами и т.д. Результатом является спутанное состояние, грубые нарушения мышления, восприятия и переживания. Кляйн пишет об уходе младенца в мир галлюцинаторного удовлетворения, в котором за счет работы описанных ею механизмов проективной идентификации, отрицания, всемогущего контроля и расщепления галлюцинируется пренатальное состояние, в котором нет тревоги и преследования.
Вслед за Кляйн У.Бион, также изучая психотическую реальность, указывал, что в основном она является производной от чрезмерной работы механизма проективной идентификации и атак на связь. Он пишет, что в результате работы этих механизмов пациент застает себя окруженным странными объектами, соединяющими части объектов и части личности. «Такое заполнение части личности наполненным, но контролирующим объектом вызывает у пациента ощущение, что слова являются именно тем, что они означают, и тем самым создают описанную Х.Сигал путаницу из-за того, что пациент отождествляет, но не символизирует».
Г.Розенфельд, описывая нарциссическую злокачественную психическую организацию, функционирующую наподобие мафии, Дж. Стайнер, который описал психические убежища, по сути, тоже говорят о психозе, правда, инкапсулированном.Напомню, что, например, Стайнер видит патологическую психическую организацию как совокупность психотических и перверсивных объектных отношений, защит и фантазий, благодаря которым можно укрыться от столкновения с реальностью, где фантазия и всемогущество могут существовать беспрепятственно, где все дозволено. По мнению Стайнера, некоторые пациенты зависят от такой организации, защищающей их от примитивных состояний фрагментации и преследования, или боли и вины при укреплении контакта с внутренней и внешней реальностью.
Таким образом, спутанность Я и объекта, чрезвычайно высокий уровень тревоги, персекуторные бессознательные фантазии, чрезмерное использование примитивных защитных механизмов, господство принципа символической эквивалентности, всемогущество, мгновенность удовольствия – вот основные черты внутренней реальности при психозе, и такое понимание принимается очень многими психоаналитиками.
Кроме этого, все или почти все согласны, что психотическая реальность практически всегда сосуществует с иной, эмоциональной реальностью, основанной на большем контакте с внешним миром.
Еще Фрейд указывал на это: «Проблема психоза была бы проста и ясна, если бы отход Я от реальности мог бы произойти полностью. Но, похоже, это встречается лишь в редких случаях, а возможно, вообще никогда не происходит. Даже о состояниях, которые так далеки от действительности внешнего мира, как то: галлюцинаторная спутанность сознания и бессвязность мыслей (аменция) — от больных после их выздоровления узнаешь, что и во время болезни в уголке их души, как они выражаются, скрывался нормальный человек, который, словно сторонний наблюдатель, следил за путаницей, которую вызывала болезнь». В работе «Расщепление Я в процессе защиты» он еще раз обращает внимание на возможность одновременного и принципиально разного обращения с тревогами со стороны Я: «Я развивает страх кастрации, формируя симптом, и в то же время Я отрицает кастрацию, галлюцинируя пенис там, где восприятие его не находит, что позволяет продолжать реализовывать желание ОНО».
Похожим образом для Мелани Кляйн параноидно-шизоидная и более высокоорганизованная депрессивная психические позиции являются потенциально сосуществующими модусами психического функционирования, а не навсегда сменяющими друг друга фазами развития, так что включение более примитивной параноидно-шизоидной реальности наряду с депрессивной всегда возможно в тех или иных обстоятельствах.
Невозможно не вспомнить в этой связи, конечно, и классическую работу У.Биона «Отличие психотической личности от непсихотической», в которой он пишет, что контакт личности с реальностью никогда не теряется, но лишь маскируется преобладающей в мыслях и действиях всемогущественной фантазией, которая стремится разрушить реальность либо стремление ее понять.
Как мы видим, в этих работах описывается внутренняя реальность психоза, но вопрос о том, как он производит галлюцинации и бред, авторами не ставится, в отличие от Де Мази. Он подчеркивает, что его интересует психотическая реальность, или психотическая часть личности как то, что производит психотические симптомы в психиатрическом смысле слова, а не теоретические размышления о примитивных защитных механизмах, называемых психотическими. Де Мази аккомодирует в своей теории эти представления о содержании фантазий и образов психотической реальности, как и представления о сосуществовании двух внутренних реальностях – психотической и непсихотической. Он, однако, идет дальше упомянутых авторов, утверждая, что психотическая реальность отделяется от непсихотической благодаря механизму диссоциации, создавая область психического отчуждения, ухода в фантазию, в котором главенствуют более примитивные – сенсорные – законы психической жизни, из которых и происходят нео-сенсорные психотические впечатления.
Диссоциацию впрямую связывал с психозом еще Винникот, на которого часто ссылается Де Мази. В своей работе «Сны, фантазии и жизнь: история первичной диссоциации» Винникот описывает мир фантазирования и мечтаний, который отделен, диссоциирован от реальности сновидений, фантазий и реальной жизни. В этом мире, как он пишет, все происходит молниеносно или не происходит вообще, все сразу, одновременно и непрерывно. В этом мире отсутствует принцип реальности, не требуется проявлений способностей, встреч с фрустрациями, что приводит к деструктивным, разрушительным последствиям для способностей и жизни в целом, однако создает внутреннее удовлетворение, чувство всемогущества и покой. Винникот опирается в понимании психотической реальности и диссоциации на свои идеи о первородном мире внутренней реальности младенца, являющимся иллюзорно, а, вернее, галлюцинаторно всемогущим – «В начале адаптация матери к ребенку должна быть почти абсолютной, без нее ребенок не сможет начать развивать способность к переживанию отношений с внешней реальностью; вначале мама на все 100% дает ему замечательную возможность иллюзии, что ее грудь является частью ребенка. Переходное пространство Винникота, как мы помним – это пространство, возникающее не сразу, но сочетающее в себе и первичную креативность ребенка, и восприятие объектов, основанное на тестировании реальности. Он пишет: «Патология в области феномена перехода возникают при фрустрации, не соответствующей способности ребенку к выдерживанию сепарации и проявляются в гиперболизации использования переходного объекта как элемента отрицания угрозы потери объекта».
Таким образом, мы получаем представление о диссоциации как о механизме, разделяющем внутренние реальности на две – одну, основанную на всемогущем контроле и отрицании, наполненной явлениями, описанными Кляйн, Бионом и Розенфельдом и другими представителями школы объектных отношений, и другую, эмоциональную реальность, основанную на тестировании реальности и постепенном развитии в контексте отношений с первичными объектами.
Опираясь на все эти идеи и развивая их, Де Мази выстраивает свою теорию психоза как психической патологии, коренящейся в психическом отчуждении, возникающем вследствие работы диссоциации. Он пишет, что триггером психоза является раннее и пролонгированное разрушение базисных процессов в первичных эмоциональных контактах. по Де мази, психоз тесно связан с ранней деструкцией эмоциональных функций и когнитивных процессов. На основе этого возникает измененное восприятие внутренней психической реальности, которая диссоциирована и фантазийна.
Его идеи можно резюмировать следующим образом:
- Психическое отчуждение можно обнаружить у детей с нарушениями адаптации, которые, как оказывает ближайшее рассмотрение, буквально уходят в отчужденный мир фантазий, переживаемый как реальный, ощущаемый до степени слышимости и видимости, оставаясь во внешней реальности пассивными и отстающими в развитии.
- Ребенок может сформировать внутри себя такую психопатологическую структуру под влиянием неспособности родителей помогать ему справляться с эмоциональным опытом. Психическое отчуждение тогда формируется как защита от мира реальных объектных отношений путем диссоциации.
- Психическое отчуждение – не статичная структура, а постоянно стремящаяся к экспансии и постепенно захватывающая все большую область психической реальности.
- Сенсорное отчуждение – бегство в мир фантазий, подобно описанному Винникотом, блокирует эпистемофилические потребности ребенка, запирая его в соблазнительном мире всемогущественного удовольствия. Существует принципиальная разница в преодолении фрустрации путем использования предшественников мышления – например, плача, адресованного матери,и эвакуации фрустрации за счет фокусирования внимания на сенсорных деталях – это и есть формирование психического отчуждения как защиты от фрустрации вне использования отношений с объектами – здесь мы можем увидеть идеи Винникота и Биона.
- В мире отчуждения потеряно время, место, отделенность, идентичность , возможность, невозможность, вероятность и невероятность, и становится возможным и логически обоснованным любой абсурд. Поскольку в этом мире возможно абсолютное удовольствие в условиях полной анархии, то этот мир соблазняет здоровые части личности и за счет этого расширяется, поскольку обычная реальность утомляет и кажется пустой
- У некоторых пациентов такой мир все же сохраняется в статичном виде, не захватывая личность, у других – ширится.
- Часто психотическая часть личности, основанная на наличии психотического отчуждения, не дает о себе знать, поскольку скрывается пациентом. Не специально, просто он способен уходить в другую реальность, отличную от реальности объектных связей, сенсорную, дающую мгновенное удовлетворение и не являющуюся для пациента предметом его беспокойства. Природа и опасность психического отчуждения пациенту не очевидны. Это наследник раннего сенсорного мира фантазий, который ребенок создает, чтобы чувствовать, что он управляет миром.
- Психотическая часть не дает пациенту передышки, так что нужно описывать для пациента эту его часть – возбуждающую, всемогущую и соблазняющую.
- Радикально конкретная природа бредового опыта, его сенсорное качество делает смысловые интерпретации бессмысленными, ведя к непониманию и спутанности
- Корневая проблема психотического пациента - не в содержании его бредового мира, а в том, что он создает сенсорный мир, заменяющий мир мышления. Мышление заменено на образы и внутренние диалоги, истинные, реальные и оторванные от реальности отношений – поэтому нет радара для проверки их истинности. Психика используется не как средство понимания реальности, а как орган, производящий восприятия и ощущения – как сенсорный орган.
- Для развития осознания пациентом его патологии надо повторять описание действий патологической части, соблазняющей уйти в отчуждение, отрывающее от отношений, предлагающей фальшивые бенефиты. Описание двух разных частей личности и взаимных отношений между ними крайне важны вместо генетических и смысловых интерпретаций.
С точки зрения Де Мази психоз возникает не из чрезмерной деструктивности, а из-за склонности к изоляции от мира отношений в диссоциированном мире воображения. Это имеет деструктивные последствия, поскольку уход в диссоциированный мир требует изменения аппарата мышления, что потом очень трудно изменить, и что и приводит к психическому заточению.
Де Мази постоянно подчеркивает этот факт, ставя его во главу угла техники своей работы – все время обнаруживать для пациента и разьяснять ему, как работает и какие последствия имеет жизнь в психотической реальности. В этом его подход отличается от подхода всех прочих авторов, которые пытаются разработать технику для изменения самих особенностей психотического функционирования, считая, возможно, поскольку психотическая реальность является более злокачественной, она и должна быть подвергнута изменению, и что интеграция с остальной частью личности произойдет сама собой. Де Мази же, напротив, фокусируется на усилении наблюдающего эго, ставя целью вместе с пациентом взять под контроль психотическую часть личности, которая соблазняет пациента мощью мгновенного удовлетворения и всемогущества.
Де Мази подчеркивает, что зачастую психотик скрывает свое психотическое отчуждение, поскольку считает его правильным не хочет открытого обсуждения. – это более плохая ситуация чем та, в которой пациент приносит свою психотическую часть для обсуждения. Проблема в том. Что, как пишет в одной из своих работ Де Мази, часто пациент ее сознает, но не осознает – она является эго-синтонной. Как нередко говорит одна из моих пациенток, верящая в приметы, остерегающаяся рассказывать кому-либо о своих планах, чтобы не сглазили, а также искренне ненавидящая людей, убежденная, что она должна себя защищать от нападения окружающих: вот здесь меня лечить не надо, слышите! Я в этом убеждена и не собираюсь это с вами обсуждать,– ярость и тревога, но и высокомерие, сопровождающие попытки обсуждения ее установок, могут быть свидетельством того, как боится лишиться пациент части себя, которая дает ему чувство всемогущества и контроля и удовольствия, но также и защиты.
Де Мази пишет, что этот сенсорный психопатологический процесс, будучи однажды установленным, производит такие психические модификации, которые трудно развернуть вспять – это не подавление, не расщепление, а разрушение средств символического познания эмоциональной реальности, что не дает возможности учиться на опыте.
Как мы можем оценить теорию Де Мази и ее практическую пользу?
Мне кажется, что он четче, чем другие авторы, подчеркивает параллельность двух модусов функционирования – психотического и не психотического, указывая на механизм диссоциации, который делает бессмысленным символические интерпретации и требует иных технических подходов к лечению.
Далее, де Мази собирает воедино разрозненные описания психотического неомира – его принципа символической эквивалентности, всемогущества, мгновенности удовольствия, соблазнительности, замкнутости, недоступности изменениям, оторванности от эмоциональной реальности – опираясь на эти описания, можно достраивать дискурс пациентов, который без таких подсказок иногда не понятен, если в голове аналитика только традиционные, и зачастую разрозненные взгляды на внутреннюю реальность психоза.
Его описание ума как не думающего, в видящего и слышащего органа соответствует описаниям младенческого мышления у Кляйн и особенно Ханны Сигал в их работах по символообразованию, однако Де Мази указывает на необратимость однажды случившихся патологических изменений и трудности терапевтического совладания с ними.
Как мне кажется, теория Де Мази безусловна полезна в работе с психотическими пациентами. Мой собственный опыт, связанный со знакомством с ней, раз за разом показывает, что если в работе с психотическим пациентом замечать – а и это не всегда просто в силу естественности для пациента тех или иных его проявлений, превращающих их в слепое пятно, брать смелость и фокусировать его внимание на удовольствии, которое он испытывает, воспринимая и оценивая реальность странным, причудливым для меня образом, и если указывать ему на то, что его дискурс наводит меняна мысли о существовании какого-то другого, непонятного мне мира, если просить его объяснить свой мир и сопоставлять его с моим, то всегда это дает терапевтический эффект – пациент задумывается и становится возможной работа над этим.
Говоря о применении теории Де Мази, я хотела бы сказать, что мое знакомство с ней заставило меня внимательней слушать других пациентов – особенно тех, которые не кажутся психотическими, но которые долго находятся в работе, застряли в продвижении, и чья жизнь не улучшается. Конечно, можно мыслить категориями негативной терапевтической реакции, травматизации, трудностей сепарации и чем-то еще, однако мой опыт показывает, что использование категории психического отчуждения, проверка дискурса пациента на предмет обнаружения у него скрытых диссоциированных психопалогических структур по типу отчуждения\ухода в фантазию может дать новый импульс в работе и изменить течение лечения. Другими словами, теория Де Мази позволяет также распознать у непсихотических пациентов отчужденные психические кластеры, которые живут по крайне примитивным законам и которые существенно влияют на качество жизни, не давая пациентам достигать своих целей и заставляя страдать. Проблема в том, что они зачастую не замечаются пациентами, да и психоаналитиками.
Понятие ухода в фантазию знакомо нам еще с трудов Фрейда, который в работе «Художник и фантазирование»1908 г. пишет, что движущими силами мечтаний являются неудовлетворенные желания (эротические или честолюбивые): «каждая фантазия… — это осуществление желания, исправление неудовлетворяющей действительности».
Он пишет: «Вообразите случай с бедным и осиротевшим юношей, которому вы сообщили адрес работодателя, у которого он, вероятно, сможет получить должность. По дороге туда он, скорее всего, погрузится в грезы соответственно своему положению. Содержание этой фантазии может выглядеть примерно так: он получает должность, приходится по душе своему новому начальнику, становится необходимым для дела, входит в семью хозяина, женится на его пленительной дочке, а позднее сам становится во главе как совладелец, а потом и как наследник дела. И сверх того мечтатель восполняет себе то, чем обладал в счастливом детстве: хранительный кров, любящих родителей и первые объекты своей сердечной привязанности. На этом примере вы видите, как желание использует сиюминутный повод, чтобы по образцу прошлого начертать эскиз будущего.
Франко Де Мази в своей теории ставит своей целью описать тот вид ухода в фантазию, которое с течением времени, будучи никак не корректируемым, дает начало психопатологической структуре – он называет это «психическое отчуждение - на основе которой в конечном счете и развиваются бредовые состояния. В этом он следует за Фрейдом, который писал: «преобладание фантазий и достижение ими всемогущества создают условия для погружения в невроз или в психоз; мечтания же являются ближайшими душевными предшественниками симптомов недуга, на который жалуются наши больные. Здесь разветвляется широкая окольная дорога к патологии…»
Tilda Publishing