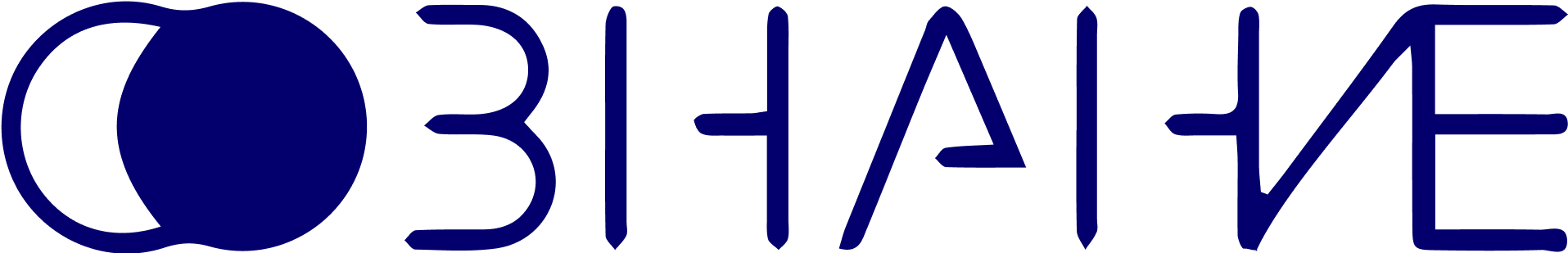Развитие зарубежных психосоматических теорий (аналитический обзор)
Аналитическое описание основных концепций, сыгравших наиболее яркие роли в истории зарубежной психосоматики.
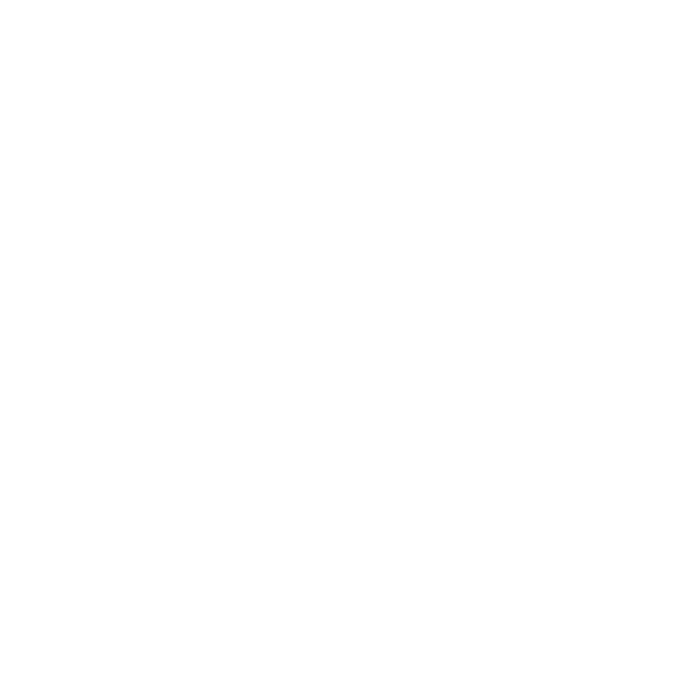
Лившиц Наталья Дмитриевна
Психоаналитик, Основательница центра, Кандидат психологических наук, доцент
Психосоматика - это учение о тесной взаимосвязи психических и соматических процессов в организме. Одна из ее важнейших задач исследование роли психологических факторов в этиопатогенезе телесных заболеваний.
Для характеристики психосоматики важно указать, каковы ее теоретико-методологические основы. Этот подход, основанный на идее целостного понимания человеческого существа, утверждался в противовес традиционной медицине, которая постулирует, что для каждого заболевания существует своя сугубо органическая причина. Такая естественно-научная ориентация ортодоксальной медицины, особенно с начала ХХ в., определялась, несомненно, открытием рефлекса, возможностями исследований на клеточном уровне, появлением химических препаратов, давших власть над множеством до сих пор не лечившихся болезней.
В ранний период развития психосоматики возникла теория "личностного профиля", на которой основываются и многие современные психосоматические исследования. Ее автор Ф. Данбар (F. Dunbar) заключила, что люди, страдающие одной и той же болезнью, похожи по личностным особенностям, которые и ответственны за возникновение заболевания.
При составлении профилей учитывались самые разнообразные анамнестические, и не только личностные, данные: частота болезней и несчастных случаев у близких родственников, семейная ситуация (количество разводов, потеря родителей, отношения с ними); истории прошлых болезней, операций, образование, социальный статус, отношения с окружающими и т.д. Данбар считала, что только взятые вместе, они могут дать представление о личности в целом. Автор не придавала значения исследованию глубоких слоев психики больных и утверждала, что болезни коррелируют именно с поверхностными личностными констелляциями. Она утверждала, что ее концепция позволяет рассматривать болезнь в широком контексте жизнедеятельности человека, не ограниченном интрапсихической сферой. И действительно, важность теории во многом состоит в указании на значимость совместного влияния различных аспектов жизнедеятельности человека на предрасположенность к болезни. Кроме того, эта концепция оказала огромное влияние на последующее развитие психосоматики. Именно в ее русле находилось и находится огромное количество работ, посвященных описанию психологических характеристик больных. Сформулированы продуктивные понятия А и В-типов личности [31, 71), "раковой" личности [67]. Тем не менее теория личностного профиля разочаровала многих ученых: она не описывала механизмов, осуществляющих влияние личностных черт на развитие болезни, тогда как именно эта задача всегда являлась одной из основных в психосоматике.
Для характеристики психосоматики важно указать, каковы ее теоретико-методологические основы. Этот подход, основанный на идее целостного понимания человеческого существа, утверждался в противовес традиционной медицине, которая постулирует, что для каждого заболевания существует своя сугубо органическая причина. Такая естественно-научная ориентация ортодоксальной медицины, особенно с начала ХХ в., определялась, несомненно, открытием рефлекса, возможностями исследований на клеточном уровне, появлением химических препаратов, давших власть над множеством до сих пор не лечившихся болезней.
В ранний период развития психосоматики возникла теория "личностного профиля", на которой основываются и многие современные психосоматические исследования. Ее автор Ф. Данбар (F. Dunbar) заключила, что люди, страдающие одной и той же болезнью, похожи по личностным особенностям, которые и ответственны за возникновение заболевания.
При составлении профилей учитывались самые разнообразные анамнестические, и не только личностные, данные: частота болезней и несчастных случаев у близких родственников, семейная ситуация (количество разводов, потеря родителей, отношения с ними); истории прошлых болезней, операций, образование, социальный статус, отношения с окружающими и т.д. Данбар считала, что только взятые вместе, они могут дать представление о личности в целом. Автор не придавала значения исследованию глубоких слоев психики больных и утверждала, что болезни коррелируют именно с поверхностными личностными констелляциями. Она утверждала, что ее концепция позволяет рассматривать болезнь в широком контексте жизнедеятельности человека, не ограниченном интрапсихической сферой. И действительно, важность теории во многом состоит в указании на значимость совместного влияния различных аспектов жизнедеятельности человека на предрасположенность к болезни. Кроме того, эта концепция оказала огромное влияние на последующее развитие психосоматики. Именно в ее русле находилось и находится огромное количество работ, посвященных описанию психологических характеристик больных. Сформулированы продуктивные понятия А и В-типов личности [31, 71), "раковой" личности [67]. Тем не менее теория личностного профиля разочаровала многих ученых: она не описывала механизмов, осуществляющих влияние личностных черт на развитие болезни, тогда как именно эта задача всегда являлась одной из основных в психосоматике.
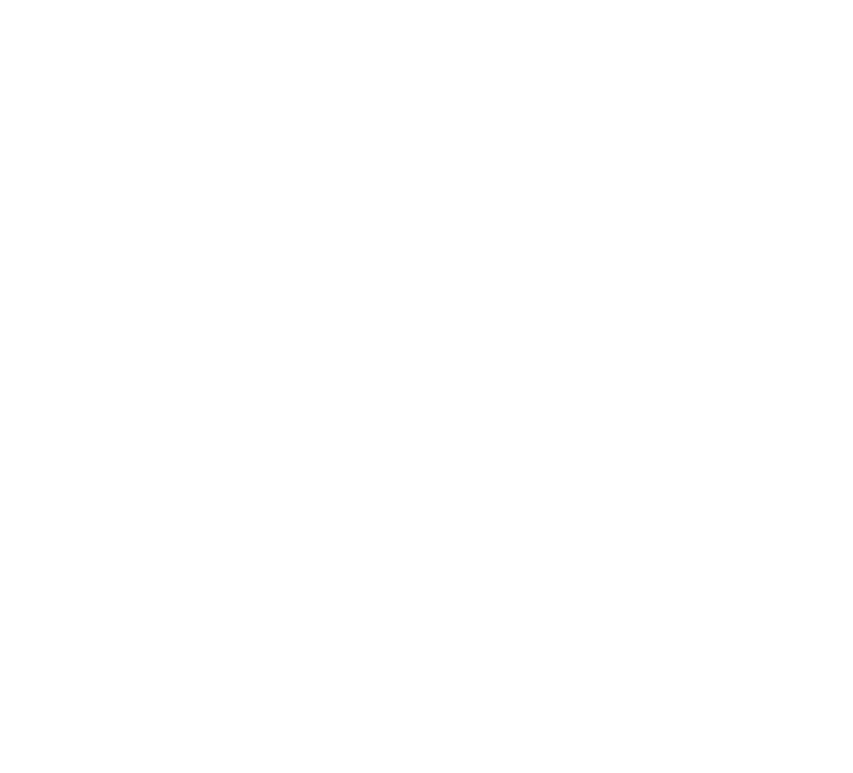
Мягкий, глубокий подход: верните энергию, настрой и жизненный интерес. Работа с травмами, депрессией, усталостью и психосоматическими состояниями. Психоаналитик Наталья Лившиц. Премия Сберздоровья 2024 по отзывам клиентов.
Возможно, поэтому большее воздействие на психосоматику оказала теория "специфичности интрапсихического конфликта", принадлежащая Ф. Александеру (F. Alexander). Эта теория позволяла не только специфицировать психологические факторы для разных болезней, но описывать гипотетические механизмы психосоматической связи в случае каждой болезни.
Александер так же, как и Данбар, выступал против придания симптомам исключительно символического значения. Он выделил группу психогенных расстройств в вегетативных системах организма, назвав их вегетативными неврозами. В этом случае симптом не символическое замещение подавленного конфликтного содержания, а нормальное физиологическое сопровождение хронизированных эмоциональных состояний [14].
Александер построил линейную модель развития психосоматического заболевания. Согласно фрейдовской модели невроза, первое звено в цепи бессознательный интрапсихический конфликт. С помощью психоаналитической техники он идентифицировал такой конфликт для семи психосоматических заболеваний: сахарного диабета, эссенциальной гипертонии, тиреотоксикоза, ревматоидного артрита, язвенной болезни, бронхиальной астмы, язвенного колита [15]. Так, у больного эссенциальной гипертонией возникает конфликт между выражением агрессии и страхом наказания; астматик подавляет желание быть накормленным и ухоженным и "сдерживает плач"; страдающий нейродермитом подавляет желание физической близости; больные тиреотоксикозом борются против страха смерти с помощью контрфобических установок [33]. Пациенты с язвенной болезнью вовлечены, по убеждению Александера, в конфликт между потребностью в зависимости, опекаемости и нарциссическим стремлением к автономности. Запрет на удовлетворение потребностей приводит к регрессивным состояниям, в которых потребности и связанные с ними эмоции выражаются физиологически. Например, потребность в любви превращается в желание быть накормленным (при этом хронически активизируется пищеварительный тракт, что приводит к гастриту) [15].
Нозология заболевания зависит от вида интрапсихического конфликта, каждому из которых соответствуют строго определенные эмоциональные переживания со своими собственными физиологическими коррелятами. Таким образом, невозможность удовлетворения потребностей в тесных отношениях при посредстве парасимпатической нервной системы может привести к развитию язвенной болезни, язвенного колита, бронхиальной астмы, а при блокировке агрессии к артриту, эссенциальной гипертонии, тиреотоксикозу и т.д.
Хотя эти болезни были выделены в особую "психосоматическую группу, в широком смысле, по определению Александера, все они являются, с одной стороны, психосоматическими, а с другой многопричинными. Он указывал, что в этиопатогенезе каждой болезни важное значение имеет множество факторов, относительная доля которых в конкретном случае может варьировать. К таким факторам он относил: наследственность; родовые травмы; заболевания раннего младенчества, которые могли увеличить уязвимость определенного органа; физические травмы в младенчестве, детстве, во взрослом возрасте; эмоциональный климат в семье и личностные черты родителей и сиблингов; эмоциональные переживания во взрослой жизни. Психосоматика, с точки зрения Александера, всего лишь добавляет последние три фактора к традиционно рассматривающимся в медицине [15].
Эти положения, казалось бы, являются "ответом" автора на последующую критику, утверждавшую, что созданная им концепция образец сугубо психогенной и потому редукционистской трактовки генеза соматических болезней. Однако, несмотря на проповедовавшуюся Александером идею многофакторности, реально в фокусе его рассмотрения остаются только психологические факторы. Кроме того, основанная на фрейдовской модели невроза, эта теория не давала ответа на некоторые вопросы. В частности, неясно, каким образом подавление связано с регрессией; почему та или иная болезнь возникает не у всех людей, вовлеченных в конфликт зависимости, и т.д. Тем не менее идея о том, что интрапсихический конфликт может стать "спусковым крючком" для цикла эмоциональных, физиологических, биохимических процессов, способных привести к серьезному органическому заболеванию, оказалась чрезвычайно продуктивной. Психосоматическая медицина в течение нескольких десятилетий находилась под влиянием идей Александера. Они были по-настоящему эвристичными и готовыми к операционализации и экспериментальным проверкам. Многие авторы, пытаясь проверить положение этой теории, действительно находили специфические интрапсихические конфликты у больных различными психосоматическими заболеваниями. Одна из самых известных экспериментальных проверок была осуществлена в 1957 г. Г. Вейнером и соавторами (H. Weiner et al.) [68]. Исходя из гипотез Ф. Александера и М. Мирски (1. Mirsky) [15, 53], они предположили, что язвенная болезнь дуоденума разовьется под воздействием трех факторов: физиологического гиперсекреции кислоты; психологического наличия выраженного внутриличностного "конфликта зависимости"; социального события, активирующего внутриличностный конфликт [68]. Эта гипотеза подтвердилась: через 16 недель у семи (из девяти) испытуемых, проходивших военную службу (стрессовое событие), имевших гиперсекретирующий желудок (физиологическая предрасположенность) и показывавших сильные потребности зависимости и страх выражения агрессии (психологические предикторы), действительно возникла дуоденальная язва.
С течением времени влияние идей Александера постепенно уменьшилось из-за накопления методических трудностей несоответствий первоначальным предположениям. В целом, несмотря на популярность психоаналитически ориентированных описательных теорий, постепенно на смену им начинают приходить "психофизиологические", основанные не на красивых клинических описаниях, а на данных систематических проверок психофизиологических гипотез. Но и в этих теориях главной целью остается объяснение специфичности болезней. Одна из наиболее известных моделей принадлежит Г. Вольфу (Н. Wolff) [69], который считал, что специфичным в психосоматическом заболевании является реакция конкретного организма на стресс. Опираясь на идеи Г. Селье (Н. Selye), он утверждал, что каждому человеку свойственен специфический паттерн физиологических реакций в ответ на стрессовые воздействия, определяемый наследственными факторами [57, 69].
В отличие от Александера, Вольф рассматривал психологические, физиологические, поведенческие изменения как сопутствующие друг другу реакции на стресс. В частности, так он интерпретировал полученные в исследовании пациента с постоянной желудочной фистулой данные об одновременном переживании враждебных чувств и гиперактивности желудочно-кишечного тракта [15, 57].
В русле психофизиологического подхода находятся и представления Дж. Лейси (J. Lacey), который предположил, что человек "отвечает" на стимулы определенным органом [44]. То есть один человек может реагировать на стресс изменением работы пищеварительного тракта, другой в ответ на этот же стимул изменениями кардиоваскулярной системы и т.д. Такая теория расширяет идею специфичности, однако в стороне оставляет вопрос о влиянии на здоровье специфичности внешних факторов. У. Грейс (W. Grace) и Д. Грахам (D. Graham) указали на роль сознательных установок в развитии различных болезней и описали их для 18 заболеваний. Они обратили внимание на важный предиктор болезни самоинтерпретацию происходящих жизненных событий, рассматривая их, однако, в отрыве от других, не менее существенных (в частности, бессознательных) факторов [33]. Каплан отметил, что физиологические ответы и болезни специфичны для различных типов стрессовых ситуаций (цит. по [60]). Так, физическая опасность может приводить к одним физиологическим изменениям и соответственно болезням, например, диарее, а сексуальные фрустрации к другим, например, головной боли.
Таким образом, важно подчеркнуть, что разработка проблемы специфичности являлась важной составной частью классических психосоматических теорий. Они предполагали, как уже указывалось, существование линейной связи между психологическими и соматическими событиями и использовали довольно ограниченный набор объяснительных категорий: личностный профиль, интрапсихический конфликт, стресс. Значительный прорыв в изучении психосоматических болезней оказался возможным благодаря привлечению новых понятий психологии развития, неофрейдизма, использованию более строгих экспериментальных методов и опоре на системные представления.
Предтечей "новых теорий" можно считать описание Дж. Райхом (J. Ruesch) инфантильной личности, характеризующейся зависимостью и пассивностью, детскими способами мышления, тенденцией реагировать действиями, завышенными притязаниями, пассивной агрессивностью. Экспрессивное поведение таких людей казалось не связанным с аффектами и чувствами [55]. Проективные методики обнаруживали малое количество стереотипизированных и примитивных фантазий. Психоаналитическое исследование вскрывало эмоциональную сцепленность таких больных с "ключевой" фигурой, обычно матерью. Практика показала, что пациентам с подобными особенностями не подходит инсайт-ориентированная психотерапия. Им требуются модифицированные техники, направленные прежде всего на осознание чувств и телесных ощущений. Таким образом, Райх обратил внимание на несколько чрезвычайно важных обстоятельств в картине психосоматоза: симбиотическую природу материнско-детских отношений у психосоматических больных; "недоразвитие" личности, выражающееся в детских способах мышления, чувствования и поведения.
Для объяснения личностного и соматического психосоматических больных некоторые исследователи стали использовать понятие регрессии [51, 56]. М. Шур (M. Schur), врач Фрейда, создал двухфазную теорию десоматизации-ресоматизации. Он предположил, что если в младенчестве человек реагирует на нарушение гомеостаза с помощью физиологических механизмов, не обладая достаточно дифференцированной психической структурой, то далее, с развитием Эго, реакции становятся все более "психическими": возникают ментальное отражение, контроль побуждений и эмоций. На фазе десоматизации человек относительно независим от непроизвольных средств разрядки побуждений. В стрессовой ситуации, при активизации бессознательных конфликтов, возможны регрессия на более раннюю фазу (здесь превалируют первичные мыслительные процессы и действует непреобразованная Эго инстинктивная энергия) и формирование соматических нарушений [56].
Таким образом, причины психосоматических болезней становятся связанными с провалами в деятельности Эго и регрессией на более низкий уровень психосоматического функционирования. Появление понятия Эго в контексте психосоматической проблематики связано с идеями А. Фрейда о защитных функциях Эго и теорией Эгопсихологии [8, 18]. Эго была приписана роль организатора психики, который постепенно стабилизирует и структурирует нерасчлененные островки непосредственных переживаний врожденную основу психического аппарата. Согласно теории Эгопсихологии, в процессе развития и созревания психика и сома постепенно разделяются и ребенок перестает жить в "сцепленном" психофизиологическом качестве. В различных травматических ситуациях возможна регрессия, так как полного разделения психического и соматического никогда не происходит.
Подобные идеи являются достаточно популярными в психосоматике. В качестве примера можно привести теорию Г. Вейлланта (G. Vaillant) [64], который подчеркивал, что для понимания индивидуальных реакций на стресс важны прежде всего понятия силы Эго, защитных механизмов и регрессии. Он считал, что защитные механизмы Эго устанавливают психобиологический гомеостаз, контролируют побуж дения и эмоции, смягчают эффекты действия внутренних и внешних стрессоров. Им был составлен каталог из 18 защитных механизмов, разделенных на 4 группы по степени зрелости: психотические, незрелые, невротические, зрелые. Корреляционные исследования показали, что разрушение этих защитных механизмов под влиянием стресса приводит к регрессии на физиологический уровень реагирования и может вызвать экстраординарные биологические и психологические последствия (сердечнососудистые, пищеварительные или другие расстройства).
Идеи влияния регрессии или дефекта развития на психосоматоз лежат также в основе современных концепций алекситимии, дословно означающей "недостаток слов для выражения чувств" [48, 52, 58, 60). В современной литературе феноменология этого синдрома описывается как совокупность 4 групп признаков: трудность идентификации и различения чувств и телесных ощущений; невозможность описания чувств; неспособность к фантазированию, внешнеориентированное мышление [60]. Автор термина П. Сифнеос (P. Sifneos) [58] предположил, что именно алекситимия ответственна за развитие психосоматического заболевания. Он считал, что алекситимический дефект (эмоциональная невыразительность), создавая конфликтную ситуацию в межличностной сфере, вызывает напряжение, трансформирующееся в патологические физиологические реакции. Природа же алекситимии скорее нейрофизиологическая, состоящая в блокировке импульсов от висцеральной зоны мозга к коре, что ведет к неспособности осознавать и вербализовать эмоции [58].
Дальнейший прогресс в понимании причин "примитивной" ментальности этих больных и развития соматических заболеваний связан с рассмотрением особенностей самых ранних контактов ребенка с окружающим миром. В соответствии с идеями Эгопсихологии важнейшие психологические новообразования у младенца появляются в период от 14-15 до 30-35 месяцев как результат процессов сепарации-индивидуации, состоящих в развивающейся готовности к независимому функционированию [36, 49]. М. Малер (М. Mahler) [49], впервые описавшая эти процессы, считала, что ребенок достигает своего психологического рождения (эмоциональной сепарации и индивидуации), проходя фазы аутизма, симбиоза и несколько подфаз сепарационно-индивидуационных процессов, в частности "вылупления" (из симбиотической орбиты), "действования" (активного освоения окружающего мира), "воссоединения" (реактивации потребности в единении с матерью), наконец, "начала консолидации индивидуальности и постоянства объекта" [49]. Для успешного развития ребенка важно адекватное поведение матери на симбиотической фазе возможны полное удовлетворение потребностей на подфазах сепарации, дозированные фрустрации, которые подталкивают ребенка к сепарации и созданию объектных репрезентаций, и т.д.
Такое понимание взаимодействия ребенка и матери имеет прямое отношение к проблеме психосоматических болезней. В соответствии с теорией Малер мать, бессознательно отвергающая попытки ребенка сепарироваться, может задержать его развитие на фазе симбиоза, что приведет к возникновению нарушенного Эго и создаст предиспозицию к болезни [59]. Психосоматическая мать описывается как авторитарная, сверхвключенная, доминирующая, открыто тревожная и латентно враждебная, требовательная, навязчивая. Специфично место отца в такой семейной констелляции: как правило, он в силу собственной слабости не может противостоять доминирующей и авторитарной матери и находится в отдалении от материнско-детской диады [59, 70). Любые попытки сепарирования со стороны ребенка скрыто отвергаются. М. Сперлинг (M. Sperling) [59], например, наблюдала тяжелые депрессии и даже психотические срывы у матерей, дети которых пытались разрушить патологическую симбиотическую связь. Больной же ребенок, слабый и зависимый, соответствует бессознательным желаниям матери, что создает дополнительное подкрепление болезни. Сперлинг рассматривала соматический симптом в контексте этих отношений как одновременное символическое подчинение матери и восстание против нее. Конечно, эти представления носят скорее метафорический характер, однако очень важным здесь является вынесение болезни "изнутри" и включение ее в социальный контекст.
Заметно, как в вышеописанных теориях фокус постепенно перемещается от исследования интрапсихических событий к обстоятельствам межличностных отношений психосоматических больных. Говоря об этом, необходимо отметить важный вклад в психосоматику психоаналитической теории объектных отношений, в соответствии с которой функционирование человеческой психики можно понять только с точки зрения его межличностных связей как ее развитие, так и возможные нарушения [34, 59]. Впрямую положения теории объектных отношений к психосоматическим проблемам долгое время не прилагались. Лишь постепенно они соединились с эмпирическими данными, свидетельствующими о влиянии межличностных аспектов жизненных событий на развитие болезни.
Еще в 50-х годах было установлено, что начало болезни практически всегда связано с определенными событиями жизни, которые воспринимаются как угрожающие или сверхсильные [46]. Однако в целом проблема связи болезни с жизненными событиями далека от разрешения. Так, противоречивы данные о том, существует ли специфика жизненных событий, важных для психосоматогенеза. Большинство авторов склоняются к точке зрения, что все люди переживают примерно равное количество стрессовых событий, существенна лишь разница в их субъективной оценке [65]. Более прицельные исследования показали, однако, что особенно часто с началом соматического заболевания оказывается сопряженным стресс, вызванный смертью близкого человека или разрывом отношений с ним [26]. Дж. Энгел (G. Engel), изучавший взрослых и детей с тяжелыми соматическими болезнями (лейкемией, язвенным колитом), показал, что эти заболевания часто развиваются вслед за потерей "ключевой фигуры", игравшей наибольшую роль в жизни человека [26, 60). Описан случай почти одновременного возникновения язвенной болезни у однояйцовых близнецов вследствие нарушения супружеских отношений [16, 71]. Энгел, как и многие другие авторы, подчеркивал, что переживание события как потери гораздо важнее степени ее реальности. Так, он выделял угрозу потери, символическую потерю, действительную потерю, каждая из которых в равной степени может спровоцировать начало заболевания [25, 26].
Обсуждая вопрос о механизме, связывающем переживание потери и начало болезни, Энгел выдвинул идею о том, что психосоматические больные используют "ключевую фигуру" как средство, жизненно необходимое им для успешной адаптации. Потеря "ключевой фигуры" воспринимается как утрата части себя, провоцируя сверхсильные чувства беспомощности, безнадежности, тоски, увеличивающие уязвимость организма и риск возникновения болезни [25, 26, 46, 60].
Понятие "объектная потеря" стало использоваться во многих психосоматических теориях. Например, важнейшим фактором формирования психосоматического биотипа соматически больного человека считается ранняя психотравма, обусловленная потерей родителя или, напротив, симбиотическими отношениями с ним [16].
Подверженность стрессу "потери объекта" с точки зрения многих современных теорий связана с наличием специфических дефектов в структуре Я. Г. Кохут (Н. Коhut), один из ярких представителей self-психологии [47], считает, что различные составляющие Я формируются в течение раннего детства как результат взаимодействия с родителями. Родители при этом переживаются как части себя "Я-объекты", надежные, стабильные, всемогущие. При оптимальных условиях в процессе интернализации эти виды отношений ведут к образованию устойчивого Я, обеспечивающего чувства самоуважения, самоуверенности, спокойствия, значимости и т.д. Нарушения "Я Я-объектных отношений", возникающие как результат эмоциональной неадекватности родителей, приводят к образованию ущербной Я-структуры ребенка. Он не может сформировать самоуважение, страдает депрессией, испытывает чувства пустоты и фрагментированности. Важно, что для поддержания нарциссического равновесия ему необходимы "архаические Я-объекты", т.е. люди, которые выполняли бы функцию регуляции внутреннего равновесия. Такой вид личностной патологии Кохут рассматривал как более глубокий, нежели неврозы эдиповой природы, и соотносил их с нарциссическими расстройствами, пограничными состояниями и психозами [47].
Положения теории self-психологии могут быть полезны для объяснения подверженности болезни. Совмещение их с идеями Малер дает такую модель: патология объектных отношений, дефект развития, приуроченный к фазам сепарации индивидуации, приводят к формированию расколотой Я-структуры, необходимой частью которой является другой человек, который регулировал и стабилизировал бы неустойчивое чувство психического равновесия. (Именно с этих позиций может быть объяснена такая часто наблюдаемая особенность психосоматических больных, как зависимость.) Изъятие людей-регуляторов (объектная потеря) приводит к нарушению психологического гомеостаза, провоцирует чувства беспомощности, безнадежности и увеличивает подверженность болезни [60, 70].
Эта модель подтверждается и уточняется благодаря данным о биологическом значении ранних отношений мать дитя [13, 40, 41]. Общеизвестно, что от качества отношений между ребенком и его ближайшим окружением зависят поведенческий, когнитивный, эмоциональный аспекты психического созревания детей: мать помогает означить недифференцированные эмоции, примитивные ощущения, неозначенные элементы восприятия. Именно в рамках межличностных отношений ребенок учится контролировать побуждения, аффекты, усваивает культурные образцы поведения [49, 60].
Психологические характеристики ранних диадических отношений обычно связы ваются также с физическим развитием детей. Предполагается, что нарушения этих отношений делают ребенка более уязвимым к воздействию жизненных стрессов [24]. Впоследствии, однако, появились данные, позволяющие дать более простое объяснение влияния объектных отношений на подверженность болезни [13, 41].
М. Хофер (М. Hofer) [41] показал в экспериментах на животных, что мать выступает как биологический регулятор, встраиваясь в считавшуюся ранее закрытой гомеостатическую организацию новорожденного. Многие биологические процессы рост, регуляция температуры, сердечного ритма, состояний сон бодрствование, вестибулярное поведение обнаружили прямую зависимость от функционирования матери как регулятора. Так, у отделенных от матери новорожденных животных наблюдались нарушения сна его фрагментация, искажение нормальных фазовых соотношений и т.д. Фактором, который непосредственно влиял на организацию цикла сон бодрствование и сами характеристики сна, оказался ритм кормления. Исследования показали, что производство гормонов роста у детеныша животного зависело от тактильного общения с матерью. Она также регулировала температуру тела ребенка, поскольку своих термомеханизмов у новорожденных еще нет. У отделенных от матерей особей температура тела очень быстро снижалась, что влияло в целом на физиологическое созревание. Нормальное вестибулярное поведение животных также определялось соответствующей стимуляцией со стороны матери.
Хотя вышеописанные данные были получены в исследованиях животных, есть основания предполагать существование подобных механизмов и у человека. Косвенным подтверждением служат общеизвестные данные об эффектах госпитализации, свидетельствующие о том, что разлученные с матерью новорожденные в большей степени, чем обычные дети, подвержены инфекциям; среди них отмечается высокая смертность, они хуже развиваются [60]. Теперь это может быть понято не просто как следствие эмоциональной депривации и увеличения подверженности стрессам, но и как результат разрушения биологических регулирующих процессов, разделенных между матерью и ребенком.
Исследования Дж. Энгела (G. Engel), М. Хофера (M. Hofer), Г. Вейнера (Н. Weiner). Р. Адера (R. Ader), Дж. Тейлора (G. Taylor) являются важными составными частями развиваемого за последние десятилетия так называемого "гомеостатического подхода". Он объединяет теоретические построения self-психологии, теории объектных отношений, результаты детских исследований, экспериментов над животными. физиологии, кибернетики.
Психобиологическая модель заболевания является новым крупным шагом в понимании природы человеческих болезней и здоровья. Эта многофакторная нелинейная концепция, очевидно, лучше описывает реальные процессы, происходящие в организме, чем предыдущие теории. В частности, стало понятно, что физическое здоровье зависит от способности регулировать (самому или используя внешние регуляторы) сложные физиологические и биохимические процессы. Тейлор указывал, однако, что эта модель все же остается достаточно гипотетичной и неоперационализированной настолько, чтобы были возможны ее экспериментальные проверки [60].
В целом современное состояние дел в области психосоматики трудно оценить однозначно. С одной стороны, эта наука очень далеко ушла от первоначальных идей истерической конверсии и приравнивания психосоматических болезней к психоневрозам. Классификации психосоматических расстройств сегодня имеет весьма обширный вид. Среди этого класса заболеваний принято выделять: психогенные расстройства (конверсионные реакции, соматические иллюзии, ипохондрические феномены); психофизиологические болезни (физиологические сопровождения эмоциональных состояний); соматопсихические психосоматические болезни (серьезные органические расстройства, развивающиеся при участии большого количества факторов) [24].
И все-таки остаются проблема специфичности, проблема установления конкретных психосоматических механизмов для каждого заболевания [67].
Результаты клинических психосоматических работ крайне разнородны. Редко устанавливаются точные и надежные данные о начале заболевания, не всегда учитывается, что болезнь это не вид, а класс (так, уже сейчас выделено 100 форм болезни щитовидной железы, 24 формы диабета, 29 разновидностей язвенной патологии [66, 67]); часто игнорируются существенные для экспериментальных работ методические вопросы, связанные с использованием диагностических средств, формированием выборок и т.д. Практически всегда встает вопрос относятся ли выявляемые психологические характеристики больных к преморбиду или нет. Вследствие всего этого резко снижается ценность получаемых данных.
Возможно, недостаточный прогресс в области психосоматики во многом связан с ограничениями, налагаемыми господствующей в ней естественно-научной парадигмой. Однако представляется, что и в рамках ее остаются еще возможности для углубления знаний о природе психосоматических болезней. Говоря об этих возможностях, следует упомянуть необходимость учета принципа активности. Многие признают, что происхождение и течение болезни во многом зависит от степени активности личности [1, 5 и др.]. Однако четко не установлены и экспериментально не проверялись конкретные воплощения этой идеи. Речь же, как представляется, может идти о том, какие именно психологические структуры, реализующие активность субъекта, наиболее тесно связаны с процессами поддержания здоровья и развития соматических недугов. Этот вопрос заслуживает, конечно, отдельного анализа. Можно лишь отметить перспективы, связанные с исследованием сферы самосознания. Попытка обращения к анализу влияния самооценки и притязаний человека (в совокупности с другими факторами) на развитие язвенной болезни 12-перстной кишки проделана в работе автора данной статьи [2]. Было показано, что несоответствие между оценкой своих возможностей и уровнем притязаний способно играть немаловажную роль в запускании ряда патологических процессов, приводящих в итоге к развитию данного вида соматической патологии. Этот результат, как представляется, подтверждает перспективность анализа специфических "механизмов активности" личности в контексте психосоматической проблематики.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бассин Ф.В. Сознание, "бессознательное" и болезнь // Вопр. философии. 1972. № 9.
2. Былкина Н.Д. Соотношение самооценки и уровня притязаний в норме и при психосоматической патологии: Дисс. ... канд. психол. наук. М.: МГУ, 1995.
3. Гален Клавдий. О назначении частей человеческого тела. М.: Медицина, 1971.
4. Гиппократ. Избранные книги. М.: Биомедгиз, 1936. 5. Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950.
6. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. М.: МГУ, 1987.
7. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. М.: Медицина, 1986.
8. Фрейд А. Психология Я и защитный механизм. М.: Педагогика-Пресс, 1993.
9. Фрейд З. О клиническом психоанализе: Избр. соч. М.: Медицина, 1991.
10. Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989.
11. Ярошевский М.Г. История психологии. М.: Мысль, 1985.
12. Abraham K. Selected Papers on psychoanalysis. L.: Hogarth Press, 1928.
13. Ader R. The role of developmental factors in susceptibility to disease // Int. J. Psychiat. Med. 1974. V. 5. P. 367-376.
14. Alexander F. Studies in psychosomatic medicine. N.Y., 1948.
15. Alexander F. The psychosomatic medicine: Its principles a. application. N.Y., 1950.
16. Arehart-Treichel J. Biotypes: The critical link between your personal. a. your health. N.Y., 1980.
17. Benedetti G. The structure of psychosom. symptoms // Amer. J. Psychoanal. 1983. V. 43(1). P. 167-169.
18. Blanck G. a. Blanck R. Ego-Psychology II // Psychoanalytic Dev. Psychol. N.Y.: Columbia Univ. Press, 1979.
19. Borens R. et al. Is the alexithymia but a social phenomenon? // Psychother, a psychosom. 1977. V. 28(1-4). P. 193-198.
20. Brown T. Cartesian Dualism a. Psychosomatics // Psychosom. 1989. V. 30(3). P. 322-332.
21. Deutsch F. The Psychosomatic Concept in psychoanalysis. N.Y.: Int. Univ. Press, 1953.
22. Dunbar F. Emotions a. Bodily changes. N.Y., 1954.
23. Engel G. The clinical application to the psychosocial model // Amer. J. Psychiat. 1980. V. 137(5). P. 535-540.
24. Engel G. Psychol. aspects of gastroint. dis. // Amer. Handbook of psychiat. / Ed. M. Reiser. 1975. V. 4. P. 653-660.
25. Engel G., Reichsman F. Spont. a. experim, induced depression in an infant. // J. Amer. Psychoanal. Assn. 1956. V. 4. P. 428-452.
26. Engel G., Schmale H. Psychoanal. theory of psychosom. disease // J. Amer. Psychoanal. Assn. 1967. V. 15. P. 344-363.
27. Fava G., Wise T. Recommendation to clin. studies in psychosom. med. // Psychother. a. Psychosom. 1987. V. 47. P. 139-142.
28. Fernandez T. et al. Alexithymic characteristic in rheumat. arthritis // Psychother. a. psychosom. 1979. V. 51. P. 45-50.
29. Ferenzsi S. Final contributions to the problems a. methods of psychoanalysis. N.Y.: Basic Books, 1955.
30. Field H. The defence // Adaptation to life / Ed.G. Vaillant. Toronto, Boston: Little, Brown a. Co., 1977.
31. Friedman M., Rosenman R. Overt. behav. pattern in coron. disease // J. Amer. Med. Assn. 1960. V. 173. P. 1320-1326.
32. Fukunishi 1. et al. A comparison of alexithymia in amer. a. japan dialisis patients // Psychother. a. Psychosom. 1992. V. 57(1-2). P. 75-80.
33. Grace W., Graham D. Relationship of specific attitudes a. emotions to certain bodily disease // Psychosom. Med. 1952. V. 14. P. 243-251.
34. Greenberg J., Mitchell S. Object relation theory in psychoanal. theory. L., 1983.
35. Groddeck G. The Meaning of illness: Selected psychoanalytic writings. L.: Hogarth Press, 1977.
36. Hartmann H. Ego-Psychology a. the problem of adaptation. N.Y.: Int. Univ. Press, 1968.
37. Heiberg Ar., Heiberg As. A possible genetic contribution to alexithymic traits // Psychother. a. Psychosom. 1978. V. 30(1-4). P. 205-210.
38. Hinkle L. Ecol. observations of the relation of phys. illness, ment. illness. the soc. environment // Psychosom. Med. 1961. V. 23. P. 289-296.
39. Hinkle L., Wolff H. Ecol. investig. of the relationships between illness, life exp. a. soc. environment // Ann. Int. Med. 1968. V. 49. P. 1373-1388.
40. Hofer V. Studies in how early maternal separation produces ben. change in young rats // Psychosom. Med. 1975. V. 37. P. 245-264.
41. Hofer M. Relationships as regulators: A psychobiol. persp. on bereavement // Psychosom. Med. 1984. V. 46. P. 183-197.
42. Holmes T., Rahe R. The soc. readjustment rating scale // J. Psychosom. Res. 1967. V. 11. P. 213-218.
43. Horton P. et al. Alexithymia: A State a. Trait // Psychother. a. Psychosom. 1992. V. 52. P. 91-96.
44. Lacey J. et al. Autonomic response spesificity // Psychosom. Med. V. 15. P. 8-21.
45. Lipowski Z. Psychosom. Med. in seventies: An overview // Amer. J. Psychiat. 1977. V. 134. P. 233-239.
46. Luban-Plozza B., Poldinger J. (ed.). Psychosom. Diseases in General Practice: Theory a. Exrerience. Basle, 1985.
47. Kohut H. The analysis of the self. Madison Connecticut: Int. Univ. Press, 1971.
48. Krystal H. Alexithymia a. psychotherapy // Amer. J. Psychother. 1979. V. 33(1). P. 17-31.
49. Mahler M. On the signif. of the norm. separ. indiv. phase // Drives, Affects, Behav. / Ed. M. Schur. Ν.Υ., 1965. V. 2.
50. Lumley M., Roby K. Alexithymia a. Pathol. Gambling // Psychother. Psychosom. 1995. V. 63(3-4). P. 201-206.
51. Margolin S. Genetic a. dynam. psychophysiol. determinants of pathol. process. // Psychosom. Conception in psychoanal. / Ed. F. Deutsch. N.Y.: Int. Univ. Press. 1953.
52. Marty P., de M'Uzan M. La pens'ee operatoire // Rev. Franc. Psychoanal. 1963. V. 27. suppl. P. 1345-1346.
53. Mirsky J. Physiologic, psychologic., a. soc. determinants in etiology of duodenal ulcer // Amer. J. Dig. Dis. 1958. V. 3. P. 285-314.
54. Poulsen A. Psychodynam., time-limit. group therapy in rheum. dis. // Psychother. a. Psychosom. 1991. V. 56. P. 12-23.
55. Ruesch J. The Infant. Personal.: the core problem of psychosom. med. // Psychosom. Med. 1948. V. 10. P. 134-144.
56. Schur M. Comments on the metapsychology of somatization // Psychoanal. study of the child. N.Y.: Int. Univ. Press, 1955. V. 10. P. 110-164.
57. Selye H. The stress of Life. N.Y.: McCraw-Hill book Co., 1956.
58. Sifneos P. et al. The phenomenon of alexithymia observations in neurotic a. psychosom. patients // Psychother. a. Psychosom. 1977. V. 28(1-4). P. 45-57.
59. Sperling M. Psychosis a. psychosom. illness // Int. J. Psychoanal. 1955. V. 36. P. 320-327.
60. Taylor G. The psychosomatic medicine a. contemporary psychoanalysis. Madison Connecticut: Int. Univ. Press, 1987. V. 3.
61. Taylor G. et al. The revised T.A.S. // Psychother. a. Psychosom. 1992. V. 57. P. 34-41.
62. Thome A. Alexithymia a. aquired immune defic. syndrome // Psychother. a. Psychosom. 1990. V. 54. P. 40-43.
63. Todarello O. et al. Alexithymia a. breast cancer // Psychother. a. Psychosom. 1989. V. 51. P. 51-55.
64. Vaillant G. Adaptation to life. Boston. Toronto: Little, Brown a. Co., 1977.
65. Walker P. et al. Life events a. psychosom. factors in men with peptic ulcer dis. // Gastroenter. 1988. V. 94. P. 323-330.
66. Weiner H. Current status a. future prospects for research in psychosomatic medicine // J. Psychiat. Res. 1971. V. 8. P. 479-498.
67. Weiner H. Specificity a. specification: two confinuing problems in psychosomatic research // Psychosom. Med. 1992. V. 54. P. 567-587.
68. Weiner H. et al. Etiology of duodenal ulcer // Psychosom. Med. 1957. V. 19(1). P. 1-10.
69. Wolff H. Life Stress a. Bodily disease // Life stress a. bodily disease / Ed. H. Wolff et al. Baltimore: Williams, Wilkins, 1946.
70. Wolman B. (ed.). Psychosom. Disorders. N.Y., L.: Plenum book Co. Cop., 1988.
71. Wresensniewski K. et al. Type A behaviour pattern a. illness other than coronary heart disease // Soc. Sci. Med. 1988. V. 27(6). P. 623-628.
72. Ziolkowski M., Cruss T., Rubakowski T. Does Alexithymia in Male Alcoholics Constitutes a Negative Factor for Maintaining Abstinence? // Psychother. Psychosom. 1995. V. 63(3-4). P. 169–173.
Александер так же, как и Данбар, выступал против придания симптомам исключительно символического значения. Он выделил группу психогенных расстройств в вегетативных системах организма, назвав их вегетативными неврозами. В этом случае симптом не символическое замещение подавленного конфликтного содержания, а нормальное физиологическое сопровождение хронизированных эмоциональных состояний [14].
Александер построил линейную модель развития психосоматического заболевания. Согласно фрейдовской модели невроза, первое звено в цепи бессознательный интрапсихический конфликт. С помощью психоаналитической техники он идентифицировал такой конфликт для семи психосоматических заболеваний: сахарного диабета, эссенциальной гипертонии, тиреотоксикоза, ревматоидного артрита, язвенной болезни, бронхиальной астмы, язвенного колита [15]. Так, у больного эссенциальной гипертонией возникает конфликт между выражением агрессии и страхом наказания; астматик подавляет желание быть накормленным и ухоженным и "сдерживает плач"; страдающий нейродермитом подавляет желание физической близости; больные тиреотоксикозом борются против страха смерти с помощью контрфобических установок [33]. Пациенты с язвенной болезнью вовлечены, по убеждению Александера, в конфликт между потребностью в зависимости, опекаемости и нарциссическим стремлением к автономности. Запрет на удовлетворение потребностей приводит к регрессивным состояниям, в которых потребности и связанные с ними эмоции выражаются физиологически. Например, потребность в любви превращается в желание быть накормленным (при этом хронически активизируется пищеварительный тракт, что приводит к гастриту) [15].
Нозология заболевания зависит от вида интрапсихического конфликта, каждому из которых соответствуют строго определенные эмоциональные переживания со своими собственными физиологическими коррелятами. Таким образом, невозможность удовлетворения потребностей в тесных отношениях при посредстве парасимпатической нервной системы может привести к развитию язвенной болезни, язвенного колита, бронхиальной астмы, а при блокировке агрессии к артриту, эссенциальной гипертонии, тиреотоксикозу и т.д.
Хотя эти болезни были выделены в особую "психосоматическую группу, в широком смысле, по определению Александера, все они являются, с одной стороны, психосоматическими, а с другой многопричинными. Он указывал, что в этиопатогенезе каждой болезни важное значение имеет множество факторов, относительная доля которых в конкретном случае может варьировать. К таким факторам он относил: наследственность; родовые травмы; заболевания раннего младенчества, которые могли увеличить уязвимость определенного органа; физические травмы в младенчестве, детстве, во взрослом возрасте; эмоциональный климат в семье и личностные черты родителей и сиблингов; эмоциональные переживания во взрослой жизни. Психосоматика, с точки зрения Александера, всего лишь добавляет последние три фактора к традиционно рассматривающимся в медицине [15].
Эти положения, казалось бы, являются "ответом" автора на последующую критику, утверждавшую, что созданная им концепция образец сугубо психогенной и потому редукционистской трактовки генеза соматических болезней. Однако, несмотря на проповедовавшуюся Александером идею многофакторности, реально в фокусе его рассмотрения остаются только психологические факторы. Кроме того, основанная на фрейдовской модели невроза, эта теория не давала ответа на некоторые вопросы. В частности, неясно, каким образом подавление связано с регрессией; почему та или иная болезнь возникает не у всех людей, вовлеченных в конфликт зависимости, и т.д. Тем не менее идея о том, что интрапсихический конфликт может стать "спусковым крючком" для цикла эмоциональных, физиологических, биохимических процессов, способных привести к серьезному органическому заболеванию, оказалась чрезвычайно продуктивной. Психосоматическая медицина в течение нескольких десятилетий находилась под влиянием идей Александера. Они были по-настоящему эвристичными и готовыми к операционализации и экспериментальным проверкам. Многие авторы, пытаясь проверить положение этой теории, действительно находили специфические интрапсихические конфликты у больных различными психосоматическими заболеваниями. Одна из самых известных экспериментальных проверок была осуществлена в 1957 г. Г. Вейнером и соавторами (H. Weiner et al.) [68]. Исходя из гипотез Ф. Александера и М. Мирски (1. Mirsky) [15, 53], они предположили, что язвенная болезнь дуоденума разовьется под воздействием трех факторов: физиологического гиперсекреции кислоты; психологического наличия выраженного внутриличностного "конфликта зависимости"; социального события, активирующего внутриличностный конфликт [68]. Эта гипотеза подтвердилась: через 16 недель у семи (из девяти) испытуемых, проходивших военную службу (стрессовое событие), имевших гиперсекретирующий желудок (физиологическая предрасположенность) и показывавших сильные потребности зависимости и страх выражения агрессии (психологические предикторы), действительно возникла дуоденальная язва.
С течением времени влияние идей Александера постепенно уменьшилось из-за накопления методических трудностей несоответствий первоначальным предположениям. В целом, несмотря на популярность психоаналитически ориентированных описательных теорий, постепенно на смену им начинают приходить "психофизиологические", основанные не на красивых клинических описаниях, а на данных систематических проверок психофизиологических гипотез. Но и в этих теориях главной целью остается объяснение специфичности болезней. Одна из наиболее известных моделей принадлежит Г. Вольфу (Н. Wolff) [69], который считал, что специфичным в психосоматическом заболевании является реакция конкретного организма на стресс. Опираясь на идеи Г. Селье (Н. Selye), он утверждал, что каждому человеку свойственен специфический паттерн физиологических реакций в ответ на стрессовые воздействия, определяемый наследственными факторами [57, 69].
В отличие от Александера, Вольф рассматривал психологические, физиологические, поведенческие изменения как сопутствующие друг другу реакции на стресс. В частности, так он интерпретировал полученные в исследовании пациента с постоянной желудочной фистулой данные об одновременном переживании враждебных чувств и гиперактивности желудочно-кишечного тракта [15, 57].
В русле психофизиологического подхода находятся и представления Дж. Лейси (J. Lacey), который предположил, что человек "отвечает" на стимулы определенным органом [44]. То есть один человек может реагировать на стресс изменением работы пищеварительного тракта, другой в ответ на этот же стимул изменениями кардиоваскулярной системы и т.д. Такая теория расширяет идею специфичности, однако в стороне оставляет вопрос о влиянии на здоровье специфичности внешних факторов. У. Грейс (W. Grace) и Д. Грахам (D. Graham) указали на роль сознательных установок в развитии различных болезней и описали их для 18 заболеваний. Они обратили внимание на важный предиктор болезни самоинтерпретацию происходящих жизненных событий, рассматривая их, однако, в отрыве от других, не менее существенных (в частности, бессознательных) факторов [33]. Каплан отметил, что физиологические ответы и болезни специфичны для различных типов стрессовых ситуаций (цит. по [60]). Так, физическая опасность может приводить к одним физиологическим изменениям и соответственно болезням, например, диарее, а сексуальные фрустрации к другим, например, головной боли.
Таким образом, важно подчеркнуть, что разработка проблемы специфичности являлась важной составной частью классических психосоматических теорий. Они предполагали, как уже указывалось, существование линейной связи между психологическими и соматическими событиями и использовали довольно ограниченный набор объяснительных категорий: личностный профиль, интрапсихический конфликт, стресс. Значительный прорыв в изучении психосоматических болезней оказался возможным благодаря привлечению новых понятий психологии развития, неофрейдизма, использованию более строгих экспериментальных методов и опоре на системные представления.
Предтечей "новых теорий" можно считать описание Дж. Райхом (J. Ruesch) инфантильной личности, характеризующейся зависимостью и пассивностью, детскими способами мышления, тенденцией реагировать действиями, завышенными притязаниями, пассивной агрессивностью. Экспрессивное поведение таких людей казалось не связанным с аффектами и чувствами [55]. Проективные методики обнаруживали малое количество стереотипизированных и примитивных фантазий. Психоаналитическое исследование вскрывало эмоциональную сцепленность таких больных с "ключевой" фигурой, обычно матерью. Практика показала, что пациентам с подобными особенностями не подходит инсайт-ориентированная психотерапия. Им требуются модифицированные техники, направленные прежде всего на осознание чувств и телесных ощущений. Таким образом, Райх обратил внимание на несколько чрезвычайно важных обстоятельств в картине психосоматоза: симбиотическую природу материнско-детских отношений у психосоматических больных; "недоразвитие" личности, выражающееся в детских способах мышления, чувствования и поведения.
Для объяснения личностного и соматического психосоматических больных некоторые исследователи стали использовать понятие регрессии [51, 56]. М. Шур (M. Schur), врач Фрейда, создал двухфазную теорию десоматизации-ресоматизации. Он предположил, что если в младенчестве человек реагирует на нарушение гомеостаза с помощью физиологических механизмов, не обладая достаточно дифференцированной психической структурой, то далее, с развитием Эго, реакции становятся все более "психическими": возникают ментальное отражение, контроль побуждений и эмоций. На фазе десоматизации человек относительно независим от непроизвольных средств разрядки побуждений. В стрессовой ситуации, при активизации бессознательных конфликтов, возможны регрессия на более раннюю фазу (здесь превалируют первичные мыслительные процессы и действует непреобразованная Эго инстинктивная энергия) и формирование соматических нарушений [56].
Таким образом, причины психосоматических болезней становятся связанными с провалами в деятельности Эго и регрессией на более низкий уровень психосоматического функционирования. Появление понятия Эго в контексте психосоматической проблематики связано с идеями А. Фрейда о защитных функциях Эго и теорией Эгопсихологии [8, 18]. Эго была приписана роль организатора психики, который постепенно стабилизирует и структурирует нерасчлененные островки непосредственных переживаний врожденную основу психического аппарата. Согласно теории Эгопсихологии, в процессе развития и созревания психика и сома постепенно разделяются и ребенок перестает жить в "сцепленном" психофизиологическом качестве. В различных травматических ситуациях возможна регрессия, так как полного разделения психического и соматического никогда не происходит.
Подобные идеи являются достаточно популярными в психосоматике. В качестве примера можно привести теорию Г. Вейлланта (G. Vaillant) [64], который подчеркивал, что для понимания индивидуальных реакций на стресс важны прежде всего понятия силы Эго, защитных механизмов и регрессии. Он считал, что защитные механизмы Эго устанавливают психобиологический гомеостаз, контролируют побуж дения и эмоции, смягчают эффекты действия внутренних и внешних стрессоров. Им был составлен каталог из 18 защитных механизмов, разделенных на 4 группы по степени зрелости: психотические, незрелые, невротические, зрелые. Корреляционные исследования показали, что разрушение этих защитных механизмов под влиянием стресса приводит к регрессии на физиологический уровень реагирования и может вызвать экстраординарные биологические и психологические последствия (сердечнососудистые, пищеварительные или другие расстройства).
Идеи влияния регрессии или дефекта развития на психосоматоз лежат также в основе современных концепций алекситимии, дословно означающей "недостаток слов для выражения чувств" [48, 52, 58, 60). В современной литературе феноменология этого синдрома описывается как совокупность 4 групп признаков: трудность идентификации и различения чувств и телесных ощущений; невозможность описания чувств; неспособность к фантазированию, внешнеориентированное мышление [60]. Автор термина П. Сифнеос (P. Sifneos) [58] предположил, что именно алекситимия ответственна за развитие психосоматического заболевания. Он считал, что алекситимический дефект (эмоциональная невыразительность), создавая конфликтную ситуацию в межличностной сфере, вызывает напряжение, трансформирующееся в патологические физиологические реакции. Природа же алекситимии скорее нейрофизиологическая, состоящая в блокировке импульсов от висцеральной зоны мозга к коре, что ведет к неспособности осознавать и вербализовать эмоции [58].
Дальнейший прогресс в понимании причин "примитивной" ментальности этих больных и развития соматических заболеваний связан с рассмотрением особенностей самых ранних контактов ребенка с окружающим миром. В соответствии с идеями Эгопсихологии важнейшие психологические новообразования у младенца появляются в период от 14-15 до 30-35 месяцев как результат процессов сепарации-индивидуации, состоящих в развивающейся готовности к независимому функционированию [36, 49]. М. Малер (М. Mahler) [49], впервые описавшая эти процессы, считала, что ребенок достигает своего психологического рождения (эмоциональной сепарации и индивидуации), проходя фазы аутизма, симбиоза и несколько подфаз сепарационно-индивидуационных процессов, в частности "вылупления" (из симбиотической орбиты), "действования" (активного освоения окружающего мира), "воссоединения" (реактивации потребности в единении с матерью), наконец, "начала консолидации индивидуальности и постоянства объекта" [49]. Для успешного развития ребенка важно адекватное поведение матери на симбиотической фазе возможны полное удовлетворение потребностей на подфазах сепарации, дозированные фрустрации, которые подталкивают ребенка к сепарации и созданию объектных репрезентаций, и т.д.
Такое понимание взаимодействия ребенка и матери имеет прямое отношение к проблеме психосоматических болезней. В соответствии с теорией Малер мать, бессознательно отвергающая попытки ребенка сепарироваться, может задержать его развитие на фазе симбиоза, что приведет к возникновению нарушенного Эго и создаст предиспозицию к болезни [59]. Психосоматическая мать описывается как авторитарная, сверхвключенная, доминирующая, открыто тревожная и латентно враждебная, требовательная, навязчивая. Специфично место отца в такой семейной констелляции: как правило, он в силу собственной слабости не может противостоять доминирующей и авторитарной матери и находится в отдалении от материнско-детской диады [59, 70). Любые попытки сепарирования со стороны ребенка скрыто отвергаются. М. Сперлинг (M. Sperling) [59], например, наблюдала тяжелые депрессии и даже психотические срывы у матерей, дети которых пытались разрушить патологическую симбиотическую связь. Больной же ребенок, слабый и зависимый, соответствует бессознательным желаниям матери, что создает дополнительное подкрепление болезни. Сперлинг рассматривала соматический симптом в контексте этих отношений как одновременное символическое подчинение матери и восстание против нее. Конечно, эти представления носят скорее метафорический характер, однако очень важным здесь является вынесение болезни "изнутри" и включение ее в социальный контекст.
Заметно, как в вышеописанных теориях фокус постепенно перемещается от исследования интрапсихических событий к обстоятельствам межличностных отношений психосоматических больных. Говоря об этом, необходимо отметить важный вклад в психосоматику психоаналитической теории объектных отношений, в соответствии с которой функционирование человеческой психики можно понять только с точки зрения его межличностных связей как ее развитие, так и возможные нарушения [34, 59]. Впрямую положения теории объектных отношений к психосоматическим проблемам долгое время не прилагались. Лишь постепенно они соединились с эмпирическими данными, свидетельствующими о влиянии межличностных аспектов жизненных событий на развитие болезни.
Еще в 50-х годах было установлено, что начало болезни практически всегда связано с определенными событиями жизни, которые воспринимаются как угрожающие или сверхсильные [46]. Однако в целом проблема связи болезни с жизненными событиями далека от разрешения. Так, противоречивы данные о том, существует ли специфика жизненных событий, важных для психосоматогенеза. Большинство авторов склоняются к точке зрения, что все люди переживают примерно равное количество стрессовых событий, существенна лишь разница в их субъективной оценке [65]. Более прицельные исследования показали, однако, что особенно часто с началом соматического заболевания оказывается сопряженным стресс, вызванный смертью близкого человека или разрывом отношений с ним [26]. Дж. Энгел (G. Engel), изучавший взрослых и детей с тяжелыми соматическими болезнями (лейкемией, язвенным колитом), показал, что эти заболевания часто развиваются вслед за потерей "ключевой фигуры", игравшей наибольшую роль в жизни человека [26, 60). Описан случай почти одновременного возникновения язвенной болезни у однояйцовых близнецов вследствие нарушения супружеских отношений [16, 71]. Энгел, как и многие другие авторы, подчеркивал, что переживание события как потери гораздо важнее степени ее реальности. Так, он выделял угрозу потери, символическую потерю, действительную потерю, каждая из которых в равной степени может спровоцировать начало заболевания [25, 26].
Обсуждая вопрос о механизме, связывающем переживание потери и начало болезни, Энгел выдвинул идею о том, что психосоматические больные используют "ключевую фигуру" как средство, жизненно необходимое им для успешной адаптации. Потеря "ключевой фигуры" воспринимается как утрата части себя, провоцируя сверхсильные чувства беспомощности, безнадежности, тоски, увеличивающие уязвимость организма и риск возникновения болезни [25, 26, 46, 60].
Понятие "объектная потеря" стало использоваться во многих психосоматических теориях. Например, важнейшим фактором формирования психосоматического биотипа соматически больного человека считается ранняя психотравма, обусловленная потерей родителя или, напротив, симбиотическими отношениями с ним [16].
Подверженность стрессу "потери объекта" с точки зрения многих современных теорий связана с наличием специфических дефектов в структуре Я. Г. Кохут (Н. Коhut), один из ярких представителей self-психологии [47], считает, что различные составляющие Я формируются в течение раннего детства как результат взаимодействия с родителями. Родители при этом переживаются как части себя "Я-объекты", надежные, стабильные, всемогущие. При оптимальных условиях в процессе интернализации эти виды отношений ведут к образованию устойчивого Я, обеспечивающего чувства самоуважения, самоуверенности, спокойствия, значимости и т.д. Нарушения "Я Я-объектных отношений", возникающие как результат эмоциональной неадекватности родителей, приводят к образованию ущербной Я-структуры ребенка. Он не может сформировать самоуважение, страдает депрессией, испытывает чувства пустоты и фрагментированности. Важно, что для поддержания нарциссического равновесия ему необходимы "архаические Я-объекты", т.е. люди, которые выполняли бы функцию регуляции внутреннего равновесия. Такой вид личностной патологии Кохут рассматривал как более глубокий, нежели неврозы эдиповой природы, и соотносил их с нарциссическими расстройствами, пограничными состояниями и психозами [47].
Положения теории self-психологии могут быть полезны для объяснения подверженности болезни. Совмещение их с идеями Малер дает такую модель: патология объектных отношений, дефект развития, приуроченный к фазам сепарации индивидуации, приводят к формированию расколотой Я-структуры, необходимой частью которой является другой человек, который регулировал и стабилизировал бы неустойчивое чувство психического равновесия. (Именно с этих позиций может быть объяснена такая часто наблюдаемая особенность психосоматических больных, как зависимость.) Изъятие людей-регуляторов (объектная потеря) приводит к нарушению психологического гомеостаза, провоцирует чувства беспомощности, безнадежности и увеличивает подверженность болезни [60, 70].
Эта модель подтверждается и уточняется благодаря данным о биологическом значении ранних отношений мать дитя [13, 40, 41]. Общеизвестно, что от качества отношений между ребенком и его ближайшим окружением зависят поведенческий, когнитивный, эмоциональный аспекты психического созревания детей: мать помогает означить недифференцированные эмоции, примитивные ощущения, неозначенные элементы восприятия. Именно в рамках межличностных отношений ребенок учится контролировать побуждения, аффекты, усваивает культурные образцы поведения [49, 60].
Психологические характеристики ранних диадических отношений обычно связы ваются также с физическим развитием детей. Предполагается, что нарушения этих отношений делают ребенка более уязвимым к воздействию жизненных стрессов [24]. Впоследствии, однако, появились данные, позволяющие дать более простое объяснение влияния объектных отношений на подверженность болезни [13, 41].
М. Хофер (М. Hofer) [41] показал в экспериментах на животных, что мать выступает как биологический регулятор, встраиваясь в считавшуюся ранее закрытой гомеостатическую организацию новорожденного. Многие биологические процессы рост, регуляция температуры, сердечного ритма, состояний сон бодрствование, вестибулярное поведение обнаружили прямую зависимость от функционирования матери как регулятора. Так, у отделенных от матери новорожденных животных наблюдались нарушения сна его фрагментация, искажение нормальных фазовых соотношений и т.д. Фактором, который непосредственно влиял на организацию цикла сон бодрствование и сами характеристики сна, оказался ритм кормления. Исследования показали, что производство гормонов роста у детеныша животного зависело от тактильного общения с матерью. Она также регулировала температуру тела ребенка, поскольку своих термомеханизмов у новорожденных еще нет. У отделенных от матерей особей температура тела очень быстро снижалась, что влияло в целом на физиологическое созревание. Нормальное вестибулярное поведение животных также определялось соответствующей стимуляцией со стороны матери.
Хотя вышеописанные данные были получены в исследованиях животных, есть основания предполагать существование подобных механизмов и у человека. Косвенным подтверждением служат общеизвестные данные об эффектах госпитализации, свидетельствующие о том, что разлученные с матерью новорожденные в большей степени, чем обычные дети, подвержены инфекциям; среди них отмечается высокая смертность, они хуже развиваются [60]. Теперь это может быть понято не просто как следствие эмоциональной депривации и увеличения подверженности стрессам, но и как результат разрушения биологических регулирующих процессов, разделенных между матерью и ребенком.
Исследования Дж. Энгела (G. Engel), М. Хофера (M. Hofer), Г. Вейнера (Н. Weiner). Р. Адера (R. Ader), Дж. Тейлора (G. Taylor) являются важными составными частями развиваемого за последние десятилетия так называемого "гомеостатического подхода". Он объединяет теоретические построения self-психологии, теории объектных отношений, результаты детских исследований, экспериментов над животными. физиологии, кибернетики.
Психобиологическая модель заболевания является новым крупным шагом в понимании природы человеческих болезней и здоровья. Эта многофакторная нелинейная концепция, очевидно, лучше описывает реальные процессы, происходящие в организме, чем предыдущие теории. В частности, стало понятно, что физическое здоровье зависит от способности регулировать (самому или используя внешние регуляторы) сложные физиологические и биохимические процессы. Тейлор указывал, однако, что эта модель все же остается достаточно гипотетичной и неоперационализированной настолько, чтобы были возможны ее экспериментальные проверки [60].
В целом современное состояние дел в области психосоматики трудно оценить однозначно. С одной стороны, эта наука очень далеко ушла от первоначальных идей истерической конверсии и приравнивания психосоматических болезней к психоневрозам. Классификации психосоматических расстройств сегодня имеет весьма обширный вид. Среди этого класса заболеваний принято выделять: психогенные расстройства (конверсионные реакции, соматические иллюзии, ипохондрические феномены); психофизиологические болезни (физиологические сопровождения эмоциональных состояний); соматопсихические психосоматические болезни (серьезные органические расстройства, развивающиеся при участии большого количества факторов) [24].
И все-таки остаются проблема специфичности, проблема установления конкретных психосоматических механизмов для каждого заболевания [67].
Результаты клинических психосоматических работ крайне разнородны. Редко устанавливаются точные и надежные данные о начале заболевания, не всегда учитывается, что болезнь это не вид, а класс (так, уже сейчас выделено 100 форм болезни щитовидной железы, 24 формы диабета, 29 разновидностей язвенной патологии [66, 67]); часто игнорируются существенные для экспериментальных работ методические вопросы, связанные с использованием диагностических средств, формированием выборок и т.д. Практически всегда встает вопрос относятся ли выявляемые психологические характеристики больных к преморбиду или нет. Вследствие всего этого резко снижается ценность получаемых данных.
Возможно, недостаточный прогресс в области психосоматики во многом связан с ограничениями, налагаемыми господствующей в ней естественно-научной парадигмой. Однако представляется, что и в рамках ее остаются еще возможности для углубления знаний о природе психосоматических болезней. Говоря об этих возможностях, следует упомянуть необходимость учета принципа активности. Многие признают, что происхождение и течение болезни во многом зависит от степени активности личности [1, 5 и др.]. Однако четко не установлены и экспериментально не проверялись конкретные воплощения этой идеи. Речь же, как представляется, может идти о том, какие именно психологические структуры, реализующие активность субъекта, наиболее тесно связаны с процессами поддержания здоровья и развития соматических недугов. Этот вопрос заслуживает, конечно, отдельного анализа. Можно лишь отметить перспективы, связанные с исследованием сферы самосознания. Попытка обращения к анализу влияния самооценки и притязаний человека (в совокупности с другими факторами) на развитие язвенной болезни 12-перстной кишки проделана в работе автора данной статьи [2]. Было показано, что несоответствие между оценкой своих возможностей и уровнем притязаний способно играть немаловажную роль в запускании ряда патологических процессов, приводящих в итоге к развитию данного вида соматической патологии. Этот результат, как представляется, подтверждает перспективность анализа специфических "механизмов активности" личности в контексте психосоматической проблематики.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бассин Ф.В. Сознание, "бессознательное" и болезнь // Вопр. философии. 1972. № 9.
2. Былкина Н.Д. Соотношение самооценки и уровня притязаний в норме и при психосоматической патологии: Дисс. ... канд. психол. наук. М.: МГУ, 1995.
3. Гален Клавдий. О назначении частей человеческого тела. М.: Медицина, 1971.
4. Гиппократ. Избранные книги. М.: Биомедгиз, 1936. 5. Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950.
6. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. М.: МГУ, 1987.
7. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. М.: Медицина, 1986.
8. Фрейд А. Психология Я и защитный механизм. М.: Педагогика-Пресс, 1993.
9. Фрейд З. О клиническом психоанализе: Избр. соч. М.: Медицина, 1991.
10. Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989.
11. Ярошевский М.Г. История психологии. М.: Мысль, 1985.
12. Abraham K. Selected Papers on psychoanalysis. L.: Hogarth Press, 1928.
13. Ader R. The role of developmental factors in susceptibility to disease // Int. J. Psychiat. Med. 1974. V. 5. P. 367-376.
14. Alexander F. Studies in psychosomatic medicine. N.Y., 1948.
15. Alexander F. The psychosomatic medicine: Its principles a. application. N.Y., 1950.
16. Arehart-Treichel J. Biotypes: The critical link between your personal. a. your health. N.Y., 1980.
17. Benedetti G. The structure of psychosom. symptoms // Amer. J. Psychoanal. 1983. V. 43(1). P. 167-169.
18. Blanck G. a. Blanck R. Ego-Psychology II // Psychoanalytic Dev. Psychol. N.Y.: Columbia Univ. Press, 1979.
19. Borens R. et al. Is the alexithymia but a social phenomenon? // Psychother, a psychosom. 1977. V. 28(1-4). P. 193-198.
20. Brown T. Cartesian Dualism a. Psychosomatics // Psychosom. 1989. V. 30(3). P. 322-332.
21. Deutsch F. The Psychosomatic Concept in psychoanalysis. N.Y.: Int. Univ. Press, 1953.
22. Dunbar F. Emotions a. Bodily changes. N.Y., 1954.
23. Engel G. The clinical application to the psychosocial model // Amer. J. Psychiat. 1980. V. 137(5). P. 535-540.
24. Engel G. Psychol. aspects of gastroint. dis. // Amer. Handbook of psychiat. / Ed. M. Reiser. 1975. V. 4. P. 653-660.
25. Engel G., Reichsman F. Spont. a. experim, induced depression in an infant. // J. Amer. Psychoanal. Assn. 1956. V. 4. P. 428-452.
26. Engel G., Schmale H. Psychoanal. theory of psychosom. disease // J. Amer. Psychoanal. Assn. 1967. V. 15. P. 344-363.
27. Fava G., Wise T. Recommendation to clin. studies in psychosom. med. // Psychother. a. Psychosom. 1987. V. 47. P. 139-142.
28. Fernandez T. et al. Alexithymic characteristic in rheumat. arthritis // Psychother. a. psychosom. 1979. V. 51. P. 45-50.
29. Ferenzsi S. Final contributions to the problems a. methods of psychoanalysis. N.Y.: Basic Books, 1955.
30. Field H. The defence // Adaptation to life / Ed.G. Vaillant. Toronto, Boston: Little, Brown a. Co., 1977.
31. Friedman M., Rosenman R. Overt. behav. pattern in coron. disease // J. Amer. Med. Assn. 1960. V. 173. P. 1320-1326.
32. Fukunishi 1. et al. A comparison of alexithymia in amer. a. japan dialisis patients // Psychother. a. Psychosom. 1992. V. 57(1-2). P. 75-80.
33. Grace W., Graham D. Relationship of specific attitudes a. emotions to certain bodily disease // Psychosom. Med. 1952. V. 14. P. 243-251.
34. Greenberg J., Mitchell S. Object relation theory in psychoanal. theory. L., 1983.
35. Groddeck G. The Meaning of illness: Selected psychoanalytic writings. L.: Hogarth Press, 1977.
36. Hartmann H. Ego-Psychology a. the problem of adaptation. N.Y.: Int. Univ. Press, 1968.
37. Heiberg Ar., Heiberg As. A possible genetic contribution to alexithymic traits // Psychother. a. Psychosom. 1978. V. 30(1-4). P. 205-210.
38. Hinkle L. Ecol. observations of the relation of phys. illness, ment. illness. the soc. environment // Psychosom. Med. 1961. V. 23. P. 289-296.
39. Hinkle L., Wolff H. Ecol. investig. of the relationships between illness, life exp. a. soc. environment // Ann. Int. Med. 1968. V. 49. P. 1373-1388.
40. Hofer V. Studies in how early maternal separation produces ben. change in young rats // Psychosom. Med. 1975. V. 37. P. 245-264.
41. Hofer M. Relationships as regulators: A psychobiol. persp. on bereavement // Psychosom. Med. 1984. V. 46. P. 183-197.
42. Holmes T., Rahe R. The soc. readjustment rating scale // J. Psychosom. Res. 1967. V. 11. P. 213-218.
43. Horton P. et al. Alexithymia: A State a. Trait // Psychother. a. Psychosom. 1992. V. 52. P. 91-96.
44. Lacey J. et al. Autonomic response spesificity // Psychosom. Med. V. 15. P. 8-21.
45. Lipowski Z. Psychosom. Med. in seventies: An overview // Amer. J. Psychiat. 1977. V. 134. P. 233-239.
46. Luban-Plozza B., Poldinger J. (ed.). Psychosom. Diseases in General Practice: Theory a. Exrerience. Basle, 1985.
47. Kohut H. The analysis of the self. Madison Connecticut: Int. Univ. Press, 1971.
48. Krystal H. Alexithymia a. psychotherapy // Amer. J. Psychother. 1979. V. 33(1). P. 17-31.
49. Mahler M. On the signif. of the norm. separ. indiv. phase // Drives, Affects, Behav. / Ed. M. Schur. Ν.Υ., 1965. V. 2.
50. Lumley M., Roby K. Alexithymia a. Pathol. Gambling // Psychother. Psychosom. 1995. V. 63(3-4). P. 201-206.
51. Margolin S. Genetic a. dynam. psychophysiol. determinants of pathol. process. // Psychosom. Conception in psychoanal. / Ed. F. Deutsch. N.Y.: Int. Univ. Press. 1953.
52. Marty P., de M'Uzan M. La pens'ee operatoire // Rev. Franc. Psychoanal. 1963. V. 27. suppl. P. 1345-1346.
53. Mirsky J. Physiologic, psychologic., a. soc. determinants in etiology of duodenal ulcer // Amer. J. Dig. Dis. 1958. V. 3. P. 285-314.
54. Poulsen A. Psychodynam., time-limit. group therapy in rheum. dis. // Psychother. a. Psychosom. 1991. V. 56. P. 12-23.
55. Ruesch J. The Infant. Personal.: the core problem of psychosom. med. // Psychosom. Med. 1948. V. 10. P. 134-144.
56. Schur M. Comments on the metapsychology of somatization // Psychoanal. study of the child. N.Y.: Int. Univ. Press, 1955. V. 10. P. 110-164.
57. Selye H. The stress of Life. N.Y.: McCraw-Hill book Co., 1956.
58. Sifneos P. et al. The phenomenon of alexithymia observations in neurotic a. psychosom. patients // Psychother. a. Psychosom. 1977. V. 28(1-4). P. 45-57.
59. Sperling M. Psychosis a. psychosom. illness // Int. J. Psychoanal. 1955. V. 36. P. 320-327.
60. Taylor G. The psychosomatic medicine a. contemporary psychoanalysis. Madison Connecticut: Int. Univ. Press, 1987. V. 3.
61. Taylor G. et al. The revised T.A.S. // Psychother. a. Psychosom. 1992. V. 57. P. 34-41.
62. Thome A. Alexithymia a. aquired immune defic. syndrome // Psychother. a. Psychosom. 1990. V. 54. P. 40-43.
63. Todarello O. et al. Alexithymia a. breast cancer // Psychother. a. Psychosom. 1989. V. 51. P. 51-55.
64. Vaillant G. Adaptation to life. Boston. Toronto: Little, Brown a. Co., 1977.
65. Walker P. et al. Life events a. psychosom. factors in men with peptic ulcer dis. // Gastroenter. 1988. V. 94. P. 323-330.
66. Weiner H. Current status a. future prospects for research in psychosomatic medicine // J. Psychiat. Res. 1971. V. 8. P. 479-498.
67. Weiner H. Specificity a. specification: two confinuing problems in psychosomatic research // Psychosom. Med. 1992. V. 54. P. 567-587.
68. Weiner H. et al. Etiology of duodenal ulcer // Psychosom. Med. 1957. V. 19(1). P. 1-10.
69. Wolff H. Life Stress a. Bodily disease // Life stress a. bodily disease / Ed. H. Wolff et al. Baltimore: Williams, Wilkins, 1946.
70. Wolman B. (ed.). Psychosom. Disorders. N.Y., L.: Plenum book Co. Cop., 1988.
71. Wresensniewski K. et al. Type A behaviour pattern a. illness other than coronary heart disease // Soc. Sci. Med. 1988. V. 27(6). P. 623-628.
72. Ziolkowski M., Cruss T., Rubakowski T. Does Alexithymia in Male Alcoholics Constitutes a Negative Factor for Maintaining Abstinence? // Psychother. Psychosom. 1995. V. 63(3-4). P. 169–173.
Tilda Publishing