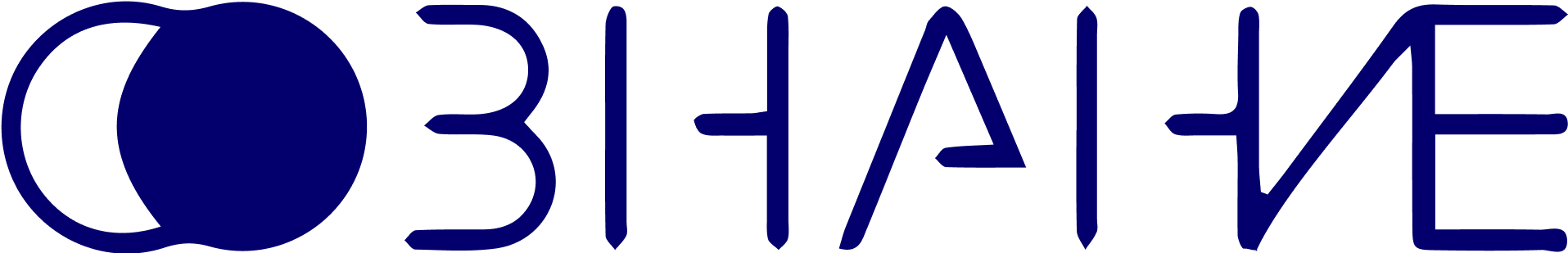Алекситимия
Статья впервые опубликована в издании «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. № 1» в 1995 году. Это была первая печатная работа Лившиц Натальи Дмитриевны, тогда ещё аспирантки психологического факультета МГУ, и она стала одной из самых часто цитируемых в русскоязычной научной психологической литературе по проблемам психосоматики, много лет помогавшей исследователям этой области.
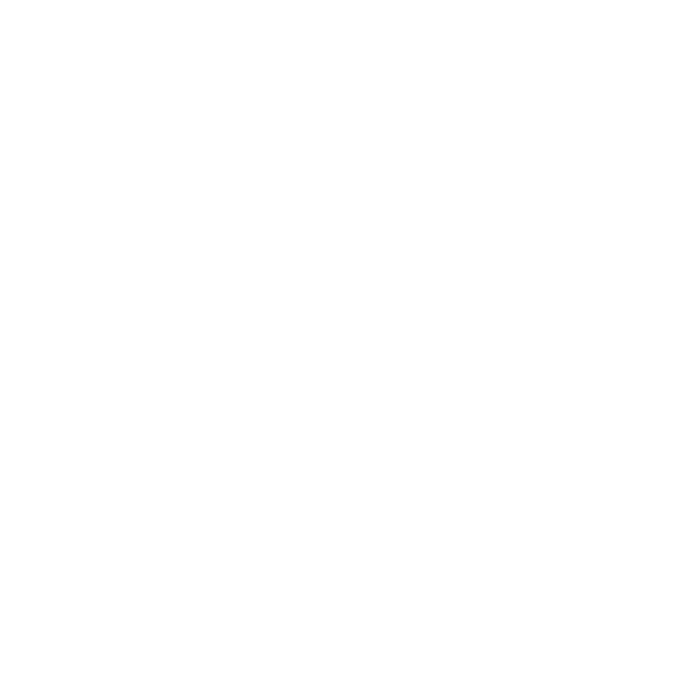
Лившиц Наталья Дмитриевна
Психоаналитик, Основательница центра, Кандидат психологических наук, доцент
Одной из основных в психосоматической науке является проблема идентификации психологических переменных, предположительно участвующих в развитии патологических соматических процессов. В ранний период развития психосоматики в качестве таковых назывались личностный тип, специфический интрапсихический конфликт, истерическая конверсия, стресс и т. д. Однако результаты интенсивных теоретических и экспериментальных исследований, проводившихся с 30-х по начало 70-х гг., убедили специалистов в том, что ни одно из указанных понятий в отдельности не может объяснить специфические механизмы того или иного заболевания.
Создавшееся положение повлекло за собой, с одной стороны, признание равноправия участвующих в соматогенезе факторов различной природы (генетических, физиологических, психологических, гормональных и т. д.) и, с другой стороны, поиск новых понятий, полнее охватывающих психологические аспекты патогенеза соматических болезнен. Большие надежды в этой связи возлагались на понятие «алекситимия», описывающее специфические особенности эмоционального реагирования и коммуницирования психосоматических пациентов. Целью настоящей статьи является ознакомление читателя с основными направлениями, тенденциями и проблемами исследования феномена алекситимии, а также оценка его значения для углубления понимания природы психосоматических заболеваний.
Клинические признаки
Термин «алекситимия», означающий «отсутствие слов для выражения чувств (от «а» — недостаток, «lexis» — слово, «thimos» — эмоция), был введен американским психоаналитиком П. Сифнеосом в 1969 г. как обобщающее название для ряда характерных особенностей, наблюдаемых у психосоматических больных (Marty, de M’Uzan, 1953; Sifneos et al., 1977).
Эти особенности автор термина излагает следующим образом:
Нетрудно заметить, что все разнообразие алекситимических черт может быть объединено в несколько групп. Так, традиционно выделяются расстройства аффективных, когнитивных функций, само- и миро- представления (Krystal, 1979; Taylor et al., 1987). Нарушения когнитивной сферы характеризуются как «стерильность и монотонность идей» (Krystal, 1979), привязанность мыслей к тривиальным деталям ежедневной жизни, недостаточная способность к творчеству, ограниченное использование символов, отсутствие мыслей, относящихся к внутренним установкам, чувствам, желаниям, побуждениям. В психотерапии это часто выявляется через трудность работы со снами: пациенты вспоминают их очень редко, описывают скупо, как нечто, в точности повторяющее дневной эпизод (Neill, Sandifer, 1982). Основным источником алекситимического когнитивного стиля большинство авторов считает «неспособность к переводу аффективных сигналов в символы для использования их в общении» (Krystal, 1979, р. 19), что и вызывает ограниченные, стереотипные и конкретные мысли.
Особенностью самоотношения алекситимиков являются, по мнению J. McDougall (1974), крайняя нечувствительность пренебрежение к своему внутреннему физическому и психологическому благополучию. Ряд авторов отмечает у этих больных ограниченную способность к регуляции своих внутренних состояний. Так, Р. Horton (1992) показал что, находясь в состоянии стресса, ощущая напряженность и дискомфорт, они используют меньше способов самоуспокоения, чем здоровые люди, предпочитая при этом психологическим средствам (обращение воспоминаниям, разговор с другим человеком и т. д.) физическую двигательную активность (спортивные игры, езду на велосипеде и т. д.) С этими данными согласуются результаты, полученные J. Fukunisi, который исследовал особенности пациентов, получающих гемодиализ.
Известно, что, как правило, разрешение на проведение этой процедуры в домашних условиях дается больным, которые оцениваются как обладающие высоким самоконтролем, способностью к самостоятельному отслеживанию и оценке своего состояния. Выяснилось, что пациенты, успешно проводящие гемодиализ дома, характеризуются как значительно менее алекситимичные, чем те, кому амбулаторный гемодиализ не рекомендован (Fukunishi et аl., 1992).
Нечувствительность алекситимиков к своим состояниям сочетается со специфическими — отчужденными и холодными — отношениями с «внешними объектами»: например, эти пациенты практически не проявляют обычного для других интереса к терапевту или интервьюеру (Taylor, .1987). Возможно, в данном случае обнаруживает себя один из аспектов аффективных расстройств алекситимиков — неспособность к эмоциональному коммуницированию. Вообще, основным дефектом области аффектов является, по мнению многих авторов, неспособность алекситимичных больных дифференцировать эмоции (Krystal, 1979; Taylor, 1987). Считается, что они осознают лишь неопределенное физиологическое напряжение, а не печаль, горе или радость. Однако есть данные и о том, что они вполне успешно идентифицируют основные эмоции: гнев, страх, счастье, печаль — на графических, изображениях (McDonald, Prkachin, 1990). Характер аффективного расстройства алекситимиков уточняется благодаря исследованию их экспрессивных особенностей. Так, в работе McDonald (Mc Donald, Prkachin, 1990) алекситимики давали гораздо менее интенсивные спонтанные мимические реакции на картинки, провоцировавшие позитивные или негативные эмоции, чем здоровые испытуемые. Одновременная регистрация физиологических реакций на стресс обнаруживала сильный физиологический ответ без словесного самоотчета об изменении переживания, что, возможно, говорит в пользу предположения о том, что у алекситимичных пациентов отсутствуют именно слова для выражения чувств, а не сами чувства.
Об особенностях эмоционального коммуницирования этих пациентов дает представление пример J. Neill & М. Sandifer, демонстрирующий, как алекситимик рассказывает о своем разводе: «Ну, она просто не живет теперь здесь, вот и все. Я не думаю, что она получит развод на этом основании…» (1982, р. 1228). Такие специфические черты эмоционального реагирования и коммуницирования должны с необходимостью приводить к обеднению межличностных связей, что и является одним из основных симптомов алекситимического нарушения. Однако, несмотря на такую эмоциональную невыразительность, алекситимики могут устанавливать длительные и тесные межличностные отношения (Flamiery, 1977). Ключ к возможному объяснению дает работа J. Overbeck (1977), который показал, что близкие и очень немногочисленные межличностные связи этих больных чаще всего имеют характер сцепления, когда партнер воспринимается как часть себя. Если относительно всех описанных выше клинических признаков у исследователей алекситимии нет разногласий, то по всем другим вопросам, будь то этиология, дифференциальная диагностика или терапия, единой точки зрения не существует.
Создавшееся положение повлекло за собой, с одной стороны, признание равноправия участвующих в соматогенезе факторов различной природы (генетических, физиологических, психологических, гормональных и т. д.) и, с другой стороны, поиск новых понятий, полнее охватывающих психологические аспекты патогенеза соматических болезнен. Большие надежды в этой связи возлагались на понятие «алекситимия», описывающее специфические особенности эмоционального реагирования и коммуницирования психосоматических пациентов. Целью настоящей статьи является ознакомление читателя с основными направлениями, тенденциями и проблемами исследования феномена алекситимии, а также оценка его значения для углубления понимания природы психосоматических заболеваний.
Клинические признаки
Термин «алекситимия», означающий «отсутствие слов для выражения чувств (от «а» — недостаток, «lexis» — слово, «thimos» — эмоция), был введен американским психоаналитиком П. Сифнеосом в 1969 г. как обобщающее название для ряда характерных особенностей, наблюдаемых у психосоматических больных (Marty, de M’Uzan, 1953; Sifneos et al., 1977).
Эти особенности автор термина излагает следующим образом:
- больным свойственно бесконечное описание физических ощущений, часто не связанных с найденным заболеванием;
- содержание мыслей характеризуется отсутствием фантазий;
- внутренние ощущения описываются преимущественно в терминах раздражительности, скуки, пустоты, усталости, возбуждения, напряжения и т. д.;
- аффекты неадекватны;
- ярко выражены трудности в вербализации чувств;
- преобладающий образ жизни — действие;
- присутствует тенденция к импульсивности;
- межличностные связи обычно бедны: больные предпочитают одиночество, часто избегают людей;
- беседа с таким пациентом, как правило, сопровождается ощущением скуки и бессмысленности контакта (Apfel, Sifneos, 1979).
Нетрудно заметить, что все разнообразие алекситимических черт может быть объединено в несколько групп. Так, традиционно выделяются расстройства аффективных, когнитивных функций, само- и миро- представления (Krystal, 1979; Taylor et al., 1987). Нарушения когнитивной сферы характеризуются как «стерильность и монотонность идей» (Krystal, 1979), привязанность мыслей к тривиальным деталям ежедневной жизни, недостаточная способность к творчеству, ограниченное использование символов, отсутствие мыслей, относящихся к внутренним установкам, чувствам, желаниям, побуждениям. В психотерапии это часто выявляется через трудность работы со снами: пациенты вспоминают их очень редко, описывают скупо, как нечто, в точности повторяющее дневной эпизод (Neill, Sandifer, 1982). Основным источником алекситимического когнитивного стиля большинство авторов считает «неспособность к переводу аффективных сигналов в символы для использования их в общении» (Krystal, 1979, р. 19), что и вызывает ограниченные, стереотипные и конкретные мысли.
Особенностью самоотношения алекситимиков являются, по мнению J. McDougall (1974), крайняя нечувствительность пренебрежение к своему внутреннему физическому и психологическому благополучию. Ряд авторов отмечает у этих больных ограниченную способность к регуляции своих внутренних состояний. Так, Р. Horton (1992) показал что, находясь в состоянии стресса, ощущая напряженность и дискомфорт, они используют меньше способов самоуспокоения, чем здоровые люди, предпочитая при этом психологическим средствам (обращение воспоминаниям, разговор с другим человеком и т. д.) физическую двигательную активность (спортивные игры, езду на велосипеде и т. д.) С этими данными согласуются результаты, полученные J. Fukunisi, который исследовал особенности пациентов, получающих гемодиализ.
Известно, что, как правило, разрешение на проведение этой процедуры в домашних условиях дается больным, которые оцениваются как обладающие высоким самоконтролем, способностью к самостоятельному отслеживанию и оценке своего состояния. Выяснилось, что пациенты, успешно проводящие гемодиализ дома, характеризуются как значительно менее алекситимичные, чем те, кому амбулаторный гемодиализ не рекомендован (Fukunishi et аl., 1992).
Нечувствительность алекситимиков к своим состояниям сочетается со специфическими — отчужденными и холодными — отношениями с «внешними объектами»: например, эти пациенты практически не проявляют обычного для других интереса к терапевту или интервьюеру (Taylor, .1987). Возможно, в данном случае обнаруживает себя один из аспектов аффективных расстройств алекситимиков — неспособность к эмоциональному коммуницированию. Вообще, основным дефектом области аффектов является, по мнению многих авторов, неспособность алекситимичных больных дифференцировать эмоции (Krystal, 1979; Taylor, 1987). Считается, что они осознают лишь неопределенное физиологическое напряжение, а не печаль, горе или радость. Однако есть данные и о том, что они вполне успешно идентифицируют основные эмоции: гнев, страх, счастье, печаль — на графических, изображениях (McDonald, Prkachin, 1990). Характер аффективного расстройства алекситимиков уточняется благодаря исследованию их экспрессивных особенностей. Так, в работе McDonald (Mc Donald, Prkachin, 1990) алекситимики давали гораздо менее интенсивные спонтанные мимические реакции на картинки, провоцировавшие позитивные или негативные эмоции, чем здоровые испытуемые. Одновременная регистрация физиологических реакций на стресс обнаруживала сильный физиологический ответ без словесного самоотчета об изменении переживания, что, возможно, говорит в пользу предположения о том, что у алекситимичных пациентов отсутствуют именно слова для выражения чувств, а не сами чувства.
Об особенностях эмоционального коммуницирования этих пациентов дает представление пример J. Neill & М. Sandifer, демонстрирующий, как алекситимик рассказывает о своем разводе: «Ну, она просто не живет теперь здесь, вот и все. Я не думаю, что она получит развод на этом основании…» (1982, р. 1228). Такие специфические черты эмоционального реагирования и коммуницирования должны с необходимостью приводить к обеднению межличностных связей, что и является одним из основных симптомов алекситимического нарушения. Однако, несмотря на такую эмоциональную невыразительность, алекситимики могут устанавливать длительные и тесные межличностные отношения (Flamiery, 1977). Ключ к возможному объяснению дает работа J. Overbeck (1977), который показал, что близкие и очень немногочисленные межличностные связи этих больных чаще всего имеют характер сцепления, когда партнер воспринимается как часть себя. Если относительно всех описанных выше клинических признаков у исследователей алекситимии нет разногласий, то по всем другим вопросам, будь то этиология, дифференциальная диагностика или терапия, единой точки зрения не существует.
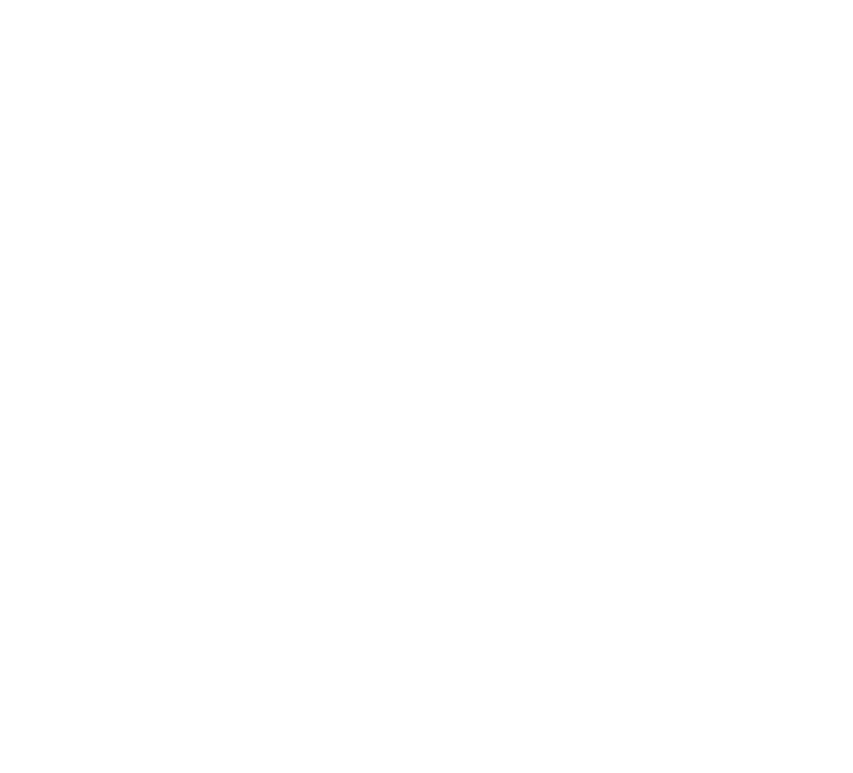
Мягкий, глубокий подход: верните энергию, настрой и жизненный интерес. Работа с травмами, депрессией, усталостью. Психоаналитик Наталья Лившиц. Премия Сберздоровья 2024 по отзывам клиентов.
«Демография» синдрома
Рассматриваемый феномен был впервые описан как особенность психосоматических больных. При этом автором термина было сделано предположение о том, что не интрапсихический конфликт инициирует заболевание, а, наоборот, алекситимический дефект, создающий конфликтную ситуацию в сфере общения, приводит к напряжению, сопровождающемуся патологическими физиологическими реакциями (Sifneos et al., 1977). Доказательством этого P. Sifneos считал, в частности, полученные им результаты, выявившие превалирование алекситимических характеристик у психосоматических больных по сравнению с нормой. Аналогичные результаты демонстрируются в большинстве работ, сравнивающих выраженность алекситимических черт у здоровых индивидов и психосоматических больных. Однако связь алекситимии с психосоматозом не так однозначна, как это представлялось вначале. Исследования показывают, что далеко не все психосоматические пациенты отличаются алекситимическими особенностями. Так, G. Engel (1972) утверждал, что многие из его психосоматических больных выражают чувства очень легко. G. Smith (1983) показал, что толь- - ко 25% психосоматиков алекситнмичны. J. Overbeck (1977) с помощью факторного анализа выделил в группе язвенных больных 6, подгрупп, различающихся по способу и успешности регуляции -поведения, побуждений, психосоциальной интеграции, и обнаружил, что только одну из них составляли алекситимики. Можно утверждать, что результаты соответствующих работ в целом свидетельствуют только о частой встречаемости алекситимии у лиц, страдающих психосоматозом, причем и количественная мера ее распределения в той или иной выборке больных колеблется от исследования к исследованию и составляет от 1,8 до 64% (Fukunishi et al., 1992 а, в; Horton et al., 1992; Poulsen, 1991; Thome, 1990).
Алекситимические характеристики найдены у здоровых испытуемых, у больных раком, у страдающих почечной недостаточностью, у больных ревматоидным артритом, у наркоманов, у алкоголиков, у лиц с маскированной депрессией, у психиатрических больных, у страдающих ожирением, у зараженных СПИДом и т. д. (Clerici et al., 1992; Fernandez et аl., 1989; Fukunishi et al., 1992 a; Poulsen, 1991; Thome, 1990; Wise et al., 1990). Очевиден вывод, что нет, оснований ставить знак равенства между наличием психосоматического заболевания и алекситимией или признавать существование причинно-следственных связей, между ними. Кроме того, возникает вопрос о статусе феномена: чем является алекситимия — стабильной характеристикой патологической личности или состоянием, которое может проявляться в определенной жизненной ситуации у любого человека?
Концепции алекситимии
Существуют значительные расхождения в понимании природы алекситимического феномена, его статуса, взаимоотношении с другими устоявшимися категориями психопатологии. С самого начала алекситимия претендовала на существование в качестве самостоятельной нозологической единицы. И до сих пор правильный дифференциальный диагноз, как отмечают многие авторы, является первоочередной задачей в каждом конкретном случае (Neill Sandifer, 1982; Radvon, 1984). Сегодня алекситимия трактуется либо как проявление защитного механизма, либо как социокультурный феномен, либо как задержка или регрессия аффективного и когнитивного развития, либо как артефакт ситуации исследования, либо как нейрофизиологический дефект и т. д.
Возможное влияние генетического фактора на присутствие алекситимии подтверждается исследованием: Аr. & As. Heiberg (1978), продемонстрировавших более значительные внутрипарные различия по алекситимии у дизиготных близнецов по сравнению с монозиготными.
Существует и нейрофизиологическая ветвь гипотез относительно природы алекситимии. К. Норре (1977) предположил, что в основе когнитивных и аффективных проблем, связанных с алекситимией лежит «функциональная комиссуротомия», блокирующая взаимодействие левого и правого полушарий головного мозга. Он обнаружил качественное и количественное уменьшение фантазий, грез и символизма у людей, перенесших комиссуротомию.
J. Nemiah развил идею P. Mac Lean, о возможности блокировки импульсов от висцерального (эмоционального) мозга к коре. Алекситимическое расстройство он локализует в палеостриарном тракте, каким-то образом подавляющем импульсы; идущие от лимбической системы к кортексу, следствием чего и является неспособность осознавать и вербализовывать эмоции (Mac Lean, 1949; Nemiah, Sifneos, 1970).
Социологические теории алекситимии, в противоположность физиологическим, пытаются встроить этот синдром во внешний социальный контекст и объяснить его извне действующими факторами. R. Borens показал, что фиксированность на симптомах, выражение эмоций с помощью языка тела и т. д. могут быть свойственны и психосоматическим больным, и больным с функциональными расстройствами. Он предположил, что алекситимия связана с низким социальным статусом, носители которого обычно имеют невысокий уровень образования и словесной культуры (Borens et al., 1977). Специально проведенное исследование способности к саморефлексии и фантазированию, а также реакций на конфликты больных из низкого и высокого социальных слоев показало, что последние характеризовались врачами как более креативные, творческие, интересные люди. Даже молчание в беседе с таким пациентом оценивается как «упрямое», «стойкое», тогда как в случае больного с низким социальным статусом — как «скучное» и «пустое» (Borens et al., 1977).
F. Lolas (1980) рассматривал алекситимию как феномен, в огромной степени зависящей от взаимодействия испытуемого терапевта и экспертного характера ситуации. Он подчеркивал, что особенности коммуникативного стиля, провал функции коммуникации эмоций (именно так понимают многие исследователи суть алекситимии) необходимо рассматривать в контексте соответствующей культуры. Например, немногословность и сдерживание эмоций, будучи нормой для некоторых культур, для других таковыми не признаются, что, однако, не является основанием для рассмотрения этого коммуникативного стиля как болезненного или дефектного (Lolas et al., 1989). Многие исследователи пытались рассмотреть природу алекситимии с психоаналитической точки зрения. С позиций фрейдовской модели невроза этот синдром концептуализировался как особый тип зашиты против непереносимых аффектов, которые, будучи подавленными, приводят к расстройствам деятельности внутренних органов (Krystal, 1979; Mc Dougall, 1974, Neill, Sandifer, 1982). Производное от этих представлений понятие соматизации аффекта используется в связи с алекситимией и сегодня. Так, например, J. Kauhanen (1991) обнаружил, что выраженность алекситимии выше у тех индивидов, которые предъявляют больше жалоб соматического характера (головные боли, тремор рук я т. п. Эти же люди чаще, чем неалекситимичные, оценивают состояние своего здоровья как неудовлетворительное. По заключению автора, эти данные могут свидетельствовать о возможной соматизации аффекта.
Очень многие современные работы явно или неявно основаны именно на представлении об алекситимии как о защите. Наблюдаемые у пациентов с угрожающими жизни болезнями (раком, СПИДом я т. п.) паттерны поведения — гибернализация или, напротив, гиперактивность в сочетании с эмоциональным «отупением» — рассматриваются как защита от невыносимых аффектов (Fukunishi et al., 1992 в; Thome, 1990; Todarello et al., 1989). В этой связи развито понятие вторичной алекситимии, которая в хронической или острой формах появляется у пациентов в особой стрессовой ситуации и вбирает в себя отрицание болезни, вытеснение, элемент покорности обстоятельствам (Freiberger, 1977).
Итак, хотя часто алекситимия (имплицитно или явно) видится как защитный механизм, некоторыми авторами показано, что она не служит психологической защитой в классическом смысле этого термина. Продемонстрирована математическая независимость вопросов, «работающих» на алекситимию, от вопросов, диагностирующих тот или иной защитный механизм (Blanchard, Arena, Pallmeyer, 1981), J. Nemiah (1975), возражая авторам, утверждающим, что алекситимия всего лишь новое название для давно известных феноменов (например, защит), показал разницу между алекситимическими расстройствами и защитными механизмами изоляции и отрицания, к которым они феноменологически близки. Он указал, в частности, что алекситимия, в отличие от изоляции и отрицания, не отвечает на психотерапевтические воздействия. Кроме того, изолированные аффекты, например у компульсивных пациентов, дифференцированны. Их конфликты хорошо поддаются. вербализации в противоположность таковым у алекситимиков. Отрицание же понимается как защитный механизм против восприятий реальности, тогда как алекситимика демонстрирует отсутствие эмоционального ответа на происходящие события.
Другим вариантом теоретического понимания алекситимии является определение ее как симптома дефекта развития. Полезными здесь оказываются представления эгопсихологии, теории объектных отношений (Blanck G., Blanck R.1979; Тауlоr, 1987), согласно которым алекситимики отличаются о невротиков уровнем психической организации. Неудивительно поэтому, как считают приверженцы этих теорий, что алекситимия была впервые выявлена у психосоматических больных которые демонстрируют значительные различия с невротиками в уровне и стиле психического функционирования.
Невротические пациенты обладают способностью описывать психологические трудности, межличностные проблемы в терминах фантазий, мыслей, чувств; у них специфические конфликты с людьми, но, в общем, они способны устанавливать теплые эмоциональные отношения; они достаточно легко вступают в коммуникацию, развивают положительный перенос и т. д. (Apfet, Sifneos, 1979). М. von Rad (1979) провёл тонкое детальное исследование различий невротических пациентов по особенностям выражения тревоги (смерти, увечья, вины, разлуки, стыда) и враждебности (направленной вовне, внутрь и амбивалентно). Было выявлено, что общее проявление тревоги и враждебности у невротиков сильнее. Существенно также то, что у психосоматических пациентов оказалась высока связь между тревогой разлуки и амбивалентной враждебностью, также как между тревогой стыда и враждебностью, направленной вовнутрь. Эти данные свидетельствуют в пользу гипотезы о ранних корнях психосоматических болезней (известно, что стыд — «древнее» чувство, связанное со страхом отвержения и неприятия).
Обнаружение алекситимии у наркоманов, алкоголиков, лиц с сексуальными перверзиями, которые с недавнего времени рассматриваются как страдающие ранней преневротической патологией, свидетельствует, может 6ыть, о том, что алекситимия — неспецифическое расстройство в переживании и прохождении эмоций, досимволический стиль психики, свойственный людям с менее организованной психической структурой (Taylor, 1987). Такое понимание объясняет многие клинические симптомы алекситимии и, в частности, использование незрелых психологических защит — отреагнрования отрицания, проективной идентификации, которые некоторыми авторами рассматриваются, не как защиты в традиционней смысле слова, а лишь как защитоподобное поведение, характерное для плохо структурированного преневротического уровня развития психики (Blanck G., Blanck R., 1979; Wise et al., 1991).
Чем же характеризуется такой уровень? J. Mc Dougall (1974) считает, что некоторые болезненные идеи и аффекты в данном случае скорее исключены из психики, а не подавлены или смещены. Инстинктивная энергия, «обходя» мозг из-за повреждения символической функции, прямо влияет на тело. Причины, этого могут корениться в расстройстве ранних материнско-детских отношений, вследствие чего Я-репрезентации не полностью дифференцируются от объектных репрезентаций, а символы могут существовать только в очень конкретизированной форме. С точки зрения J. Mc Dougall (1974), алекситимия — очень сильная защита против интрапсихической психотической тревоги, связанной с архаическим внутренним объектом.
Когнитивные проблемы алекситимиков этот же автор объясняет тем, что эго, не способное регулировать неприятные мысли, аффекты или фантазии, скорее разрушает их репрезентации. Результат — сверхпривязанность к предметам, событиям внешней реальности, которые заполняют внутреннюю брешь. Таким образом, для Mc Dougall алекситимический дефект означает раннюю преневротическую патологию и характеризуется досимволическим функционированием объектов и связанных с ними аффектов.
К пониманию алекситимии как архаического вида защит Н. Krystal (1979) добавляет понятия регрессии и психотравмы. Он объясняет алекситимический феномен, исходя из собственной генетической теории аффектов. Согласно ей, сущность эмоционального развития — это постепенные дифференциация, вербализация и десоматизация аффектов, находящихся в прямой зависимости от характера материнско-детских отношений, только внутри которых ребенок может усвоить паттерны зрелого аффективного поведения. Krystal указывает на самоочевидную связь между симптомами алекситимии и трудностями дифференциации, десоматизации, вербализации аффектов. Наблюдаемое у алекситимиков небрежение, невнимание к собственному телу и его сигналам, озабоченность деталями окружения понимается как следствие неразвитой способности использовать эмоции как знаки, обращенные к себе. Для этого автора алекситимия — это регрессия по линии аффективного развития, причина которой лежит в психотравме. Она может быть инфантильной или «катастрофической» (соответственно алекситимия — врожденной или вторичной), но это всегда сверхсильное непереносимое эмоциональное переживание, вызывающее страх эмоций, тенденцию к блокировке или потерю способности интегрировать их. Следствием такой психотравмы является соматизация аффектов, часто приводящая к болезни (Krystal, 1978, 1979).Когнитивные проблемы алекситимиков этот же автор объясняет тем, что эго, не способное регулировать неприятные мысли, аффекты или фантазии, скорее разрушает их репрезентации. Результат — сверхпривязанность к предметам, событиям внешней реальности, которые заполняют внутреннюю брешь. Таким образом, для Mc Dougall алекситимический дефект означает раннюю преневротическую патологию и характеризуется досимволическим функционированием объектов и связанных с ними аффектов.
Другой известный исследователь алекситимии — М. von Rad (1984) предполагает, что алекситимическая симптоматика является проявлением преневротической патологии и локализуется на стадии деформирования объектных репрезентаций. Он уточняет характер расстройства материнско-детских отношений, на критическое влияние которых указывает большинство авторов (Blanck G., Blanck R, 1979; Krystal, 1979; Taylor, 1987). Он утверждает, что матери алекситимичных пациентов демонстрируют, как правило, два паттерна доведения: сверхопекающее или латентно-отвергающее, причем довольно часто оба паттерна присутствуют вместе.
М. von Rad придерживается идей М. Mahler (1965) о ходе нормального развития ребенка, состоящего в постепенной сепарации от матери, в «вылуплении» из симбиотического союза. Происходит это при условии соответствующего помогающего поведения Матери, которая обучает ребенка способам саморегуляции, самоухода и самозащиты. Важную роль в этом процессе сепарации играет формирование объектных репрезентаций как результат дозированного Отсутствия матери (удовлетворяющего объекта). Сверхзащищающая мать, постоянно присутствующая и участвующая своими активными действиями в редукции напряжения потребностей ребенка, не позволяет ему развить самостоятельные стратегии кооперирования с возникающим напряжением. Именно поэтому для алекситимика недостижимы десоматизация и дифференциация аффектов, являющиеся результатом развития объектных репрезентаций и саморегулирующих стратегий.
Канадский исследователь G. Taylor, (1987) также локализует алекситимию на уровне примитивного ментального функционирования, определяя ее как дефектный коммуникативный стиль, основанный на расстройстве переживания и прохождения эмоций. Для объяснения генезиса алекситимии он использует идеи W. Bion (1968) о существовании в личности каждого человека ограниченного инкапсулированного участка примитивного ментального функционирования, регрессия до уровня которого под воздействием. стресса приводит к появлению алекситимических черт.
В начале изучения алекситимии Р. Sifneos предположил существование этнологической зависимости между этим синдромом и психосоматозом. Согласно современной точке зрения, и алекситимия и психосоматические болезни действительно имеют общее, существуя как симптомы преневротического уровня психического и личностного функционирования, обусловленного патологией детско-материнских отношений.
Лечение
Первые попытки лечения алекситимии были сделаны в рамках психодинамической психотерапии (Krystal, 1979; Neill; Sandifer, 1982, Rad von, 1984). Однако очень скоро стало очевидно, что алекситимичным больным этот метод не подходит. J. Ruesch (1948) открыл, что они не развивают типичного невротического переноса. J. Overbeck (1977) обнаружил, что алекситимики создают очень мало спонтанной речевой продукции во время психотерапевтического часа, не склонны обсуждать свои чувства, не проявляют интереса к терапевту к ожидают от него лечения по медицинской модели. Эти причины быстро приводят в тупик, и возникает высокий риск контрансферных противодействий. Кроме того, алекситимики часто патологически привязываются к психотерапевтической ситуации; используя ее как замещающий объект. Было также установлено, что психодинамическая психотерапия нередко приводит к аггравации соматических симптомов и риску психотической декомпенсации (Taylor, 1987). Групповая психодинамическая психотерапия, по мнению многих авторов, также неэффективна. J. Neill & Sandifer (1982) отмечают крайне незначительное улучшение состояния алекситимиков в ходе групповой работы. R. Pierloot, сравнивая эффективность кратковременной динамической терапии и систематической десенсибилизации, пришел к выводу, что первая не имеет никаких преимуществ перед последней (Pierloot, Vinck, 1977). Недавние данные A. Poulsen (1991) о достигнутом улучшении состояния алекситимиков в ходе кратковременной динамической терапий, казалось бы, противоречат более ранним результатам, однако следует учесть, что техника психодинамической работы в данном исследовании была существенно модифицирована и упор был сделан на развитие возможности безопасного выражения чувств.
Причины неэффективности психодинамической психотерапии в случае алекситимии кроются, очевидно, в несоответствии действительного психологического расстройства этих больных и лежащей в основе психодинамического подхода фрейдовской модели невроза.
Решению проблемы терапии могут помочь наблюдаемые у алекситимиков феномены «патологической привязанности к психотерапевту и всей ситуации лечения и наличие положительного эффекта при поддерживающем поведении терапевта (Krystal, 1979; Rad von, 1984).
Иначе говоря, речь идет о понимании алекситимии как феномена недостаточного уровня психологического развития. На сегодня достаточно устоялось мнение, что для успешной психотерапии алекситимиков пригодна модифицированная психодинамическая психотерапия, напоминающая работу с детьми, в которой поддерживающий момент и момент кларификации играют более важную роль, чем в психодинамической работе со взрослыми.
М. von Rad (1984) указывал, что в ходе психотерапии терапевт должен вести себя подобно матери, помогая пациенту продвигаться по пути достижения психологической зрелости, т, е. создавать символы, осознавать, наблюдать и организовывать аффекты вместо символической интерпретации снов, действий и физических симптомов. Конкретные исследования подтверждают эффективность такого подхода. Так, P. Garfinkle (1982) обнаружил, что алекситимия у лиц, страдающих анорексией, лучше лечится с помощью идентификации и переописывания их аффективных состояний, чем путем интерпретирования их бессознательных мотивов. J. Ruesch (1948) показал, что по крайней мере на ранней стадии лечения большое значение имеет установление доверительного контакта, медицинская терапия. С точки зрения J. Modell (1980), ситуация терапии может играть роль «переходного объекта», помогающего дальнейшему развитию «объективных» отношений пациента. G. Taylor (1987) указывает, что важно также обратить внимание на дефектный коммуникативный стиль алекситимика, который и должен стать фокусом работы на долгое время.
Н. Krystal (1979) выделил специфические задачи в психотерапии алекситимического расстройства: первая — помочь пациенту пронаблюдать природу своих особенностей; пациент должен увидеть, в чем его эмоции непохожи на эмоции других людей и начать учиться не замещать чувства физиологическими реакциями; вторая задача — помочь пациенту развить аффективную толерантность, указывая на его малоадаптивные способы переживания эмоций. Как отмечает в этой связи Н. Wolff (1977), терапевту полезно хотя бы на время принять способ экспрессии, свойственный больному.
Кроме модифицированной психодинамической психотерапии, в литературе имеются указания на применение других психотерапевтических средств. Так, J. Ruff представил данные об эффективности использования «внутреннего снимателя речи», который как бы говорит за пациента (цит. по: Neill, Sandifer, 1982). J. Schraa & J. Dick (1981) показали успешность лечения алекситимии с помощью гипноза.
Проанализировав известные способы психотерапевтического вмешательства в случае алекситимии, J. Neill&M. Sandifer (1982) дали следующие рекомендации: признать, что естественный отбор всегда будет иметь место и не всем алекситимичным больным возможно помочь; ставить скромные цели и не ожидать облегчения всех симптомов сразу; иметь в виду особую важность поддерживающего и принимающего стиля поведения, не провоцирующего тревоги.
Заключение
Разумеется, в кратком обзоре невозможно описать все результаты исследований алекситимии. За относительно короткий срок изучение этого феномена превратилось в достаточно разработанную предметную область. Вместе с тем очевидно, что накопленный к настоящему времени багаж теоретических и эмпирических данных достаточно неоднороден и противоречив.
Понятие алекситимии не отвечает на один из важнейших вопросов психосоматики — вопрос о «выборе органа», т. е. не объясняет причин и механизмов конкретных психосоматических болезней, указывая в общем, виде на возможность патологического влияния немедиированных эмоций на телесное функционирование.
Пожалуй, главным остается вопрос о статусе феномена. Является ли алекситимия отдельной психопатологической единицей со специфическими механизмами развития функционирования, либо это комплекс феноменологических проявлений давно известных нарушений? Анализ литературы показывает, что все-таки в алекситимии чаще всего видят не самостоятельную категорию, обладающую объяснительными возможностями, а род защитного механизма либо по подобию отрицания, либо как архаическое защитоподобное поведение.
Следует отметить в этой связи, что наблюдавшиеся нами у здоровых испытуемых или больных психосоматозами различные сочетания симптомов, обычно описываемых как алекситимические, всякий раз могли быть поняты в контексте исследовательской или психотерапевтической работы либо как проблемы контакта, либо как проявление привычного защитного стиля, либо как признаки низкого образовательного уровня и т. д. Конечно, эти наблюдения носят сугубо предварительный характер, но и они свидетельствуют скорее в пользу предоставления об алекситимии как удачном названии комплекса проявлений, каждый раз нуждающихся в отдельном изучении и объяснении. В этой связи хотелось бы отметить, что современные идеи об уровнях психического функционирования, о влиянии дефектов развития на различные аспекты эмоциональной сферы человека, понятия саморегуляции и механизмов ее становления открывают, как представляется, перспективные возможности понимания синдрома алекситимии.
Рассматриваемый феномен был впервые описан как особенность психосоматических больных. При этом автором термина было сделано предположение о том, что не интрапсихический конфликт инициирует заболевание, а, наоборот, алекситимический дефект, создающий конфликтную ситуацию в сфере общения, приводит к напряжению, сопровождающемуся патологическими физиологическими реакциями (Sifneos et al., 1977). Доказательством этого P. Sifneos считал, в частности, полученные им результаты, выявившие превалирование алекситимических характеристик у психосоматических больных по сравнению с нормой. Аналогичные результаты демонстрируются в большинстве работ, сравнивающих выраженность алекситимических черт у здоровых индивидов и психосоматических больных. Однако связь алекситимии с психосоматозом не так однозначна, как это представлялось вначале. Исследования показывают, что далеко не все психосоматические пациенты отличаются алекситимическими особенностями. Так, G. Engel (1972) утверждал, что многие из его психосоматических больных выражают чувства очень легко. G. Smith (1983) показал, что толь- - ко 25% психосоматиков алекситнмичны. J. Overbeck (1977) с помощью факторного анализа выделил в группе язвенных больных 6, подгрупп, различающихся по способу и успешности регуляции -поведения, побуждений, психосоциальной интеграции, и обнаружил, что только одну из них составляли алекситимики. Можно утверждать, что результаты соответствующих работ в целом свидетельствуют только о частой встречаемости алекситимии у лиц, страдающих психосоматозом, причем и количественная мера ее распределения в той или иной выборке больных колеблется от исследования к исследованию и составляет от 1,8 до 64% (Fukunishi et al., 1992 а, в; Horton et al., 1992; Poulsen, 1991; Thome, 1990).
Алекситимические характеристики найдены у здоровых испытуемых, у больных раком, у страдающих почечной недостаточностью, у больных ревматоидным артритом, у наркоманов, у алкоголиков, у лиц с маскированной депрессией, у психиатрических больных, у страдающих ожирением, у зараженных СПИДом и т. д. (Clerici et al., 1992; Fernandez et аl., 1989; Fukunishi et al., 1992 a; Poulsen, 1991; Thome, 1990; Wise et al., 1990). Очевиден вывод, что нет, оснований ставить знак равенства между наличием психосоматического заболевания и алекситимией или признавать существование причинно-следственных связей, между ними. Кроме того, возникает вопрос о статусе феномена: чем является алекситимия — стабильной характеристикой патологической личности или состоянием, которое может проявляться в определенной жизненной ситуации у любого человека?
Концепции алекситимии
Существуют значительные расхождения в понимании природы алекситимического феномена, его статуса, взаимоотношении с другими устоявшимися категориями психопатологии. С самого начала алекситимия претендовала на существование в качестве самостоятельной нозологической единицы. И до сих пор правильный дифференциальный диагноз, как отмечают многие авторы, является первоочередной задачей в каждом конкретном случае (Neill Sandifer, 1982; Radvon, 1984). Сегодня алекситимия трактуется либо как проявление защитного механизма, либо как социокультурный феномен, либо как задержка или регрессия аффективного и когнитивного развития, либо как артефакт ситуации исследования, либо как нейрофизиологический дефект и т. д.
Возможное влияние генетического фактора на присутствие алекситимии подтверждается исследованием: Аr. & As. Heiberg (1978), продемонстрировавших более значительные внутрипарные различия по алекситимии у дизиготных близнецов по сравнению с монозиготными.
Существует и нейрофизиологическая ветвь гипотез относительно природы алекситимии. К. Норре (1977) предположил, что в основе когнитивных и аффективных проблем, связанных с алекситимией лежит «функциональная комиссуротомия», блокирующая взаимодействие левого и правого полушарий головного мозга. Он обнаружил качественное и количественное уменьшение фантазий, грез и символизма у людей, перенесших комиссуротомию.
J. Nemiah развил идею P. Mac Lean, о возможности блокировки импульсов от висцерального (эмоционального) мозга к коре. Алекситимическое расстройство он локализует в палеостриарном тракте, каким-то образом подавляющем импульсы; идущие от лимбической системы к кортексу, следствием чего и является неспособность осознавать и вербализовывать эмоции (Mac Lean, 1949; Nemiah, Sifneos, 1970).
Социологические теории алекситимии, в противоположность физиологическим, пытаются встроить этот синдром во внешний социальный контекст и объяснить его извне действующими факторами. R. Borens показал, что фиксированность на симптомах, выражение эмоций с помощью языка тела и т. д. могут быть свойственны и психосоматическим больным, и больным с функциональными расстройствами. Он предположил, что алекситимия связана с низким социальным статусом, носители которого обычно имеют невысокий уровень образования и словесной культуры (Borens et al., 1977). Специально проведенное исследование способности к саморефлексии и фантазированию, а также реакций на конфликты больных из низкого и высокого социальных слоев показало, что последние характеризовались врачами как более креативные, творческие, интересные люди. Даже молчание в беседе с таким пациентом оценивается как «упрямое», «стойкое», тогда как в случае больного с низким социальным статусом — как «скучное» и «пустое» (Borens et al., 1977).
F. Lolas (1980) рассматривал алекситимию как феномен, в огромной степени зависящей от взаимодействия испытуемого терапевта и экспертного характера ситуации. Он подчеркивал, что особенности коммуникативного стиля, провал функции коммуникации эмоций (именно так понимают многие исследователи суть алекситимии) необходимо рассматривать в контексте соответствующей культуры. Например, немногословность и сдерживание эмоций, будучи нормой для некоторых культур, для других таковыми не признаются, что, однако, не является основанием для рассмотрения этого коммуникативного стиля как болезненного или дефектного (Lolas et al., 1989). Многие исследователи пытались рассмотреть природу алекситимии с психоаналитической точки зрения. С позиций фрейдовской модели невроза этот синдром концептуализировался как особый тип зашиты против непереносимых аффектов, которые, будучи подавленными, приводят к расстройствам деятельности внутренних органов (Krystal, 1979; Mc Dougall, 1974, Neill, Sandifer, 1982). Производное от этих представлений понятие соматизации аффекта используется в связи с алекситимией и сегодня. Так, например, J. Kauhanen (1991) обнаружил, что выраженность алекситимии выше у тех индивидов, которые предъявляют больше жалоб соматического характера (головные боли, тремор рук я т. п. Эти же люди чаще, чем неалекситимичные, оценивают состояние своего здоровья как неудовлетворительное. По заключению автора, эти данные могут свидетельствовать о возможной соматизации аффекта.
Очень многие современные работы явно или неявно основаны именно на представлении об алекситимии как о защите. Наблюдаемые у пациентов с угрожающими жизни болезнями (раком, СПИДом я т. п.) паттерны поведения — гибернализация или, напротив, гиперактивность в сочетании с эмоциональным «отупением» — рассматриваются как защита от невыносимых аффектов (Fukunishi et al., 1992 в; Thome, 1990; Todarello et al., 1989). В этой связи развито понятие вторичной алекситимии, которая в хронической или острой формах появляется у пациентов в особой стрессовой ситуации и вбирает в себя отрицание болезни, вытеснение, элемент покорности обстоятельствам (Freiberger, 1977).
Итак, хотя часто алекситимия (имплицитно или явно) видится как защитный механизм, некоторыми авторами показано, что она не служит психологической защитой в классическом смысле этого термина. Продемонстрирована математическая независимость вопросов, «работающих» на алекситимию, от вопросов, диагностирующих тот или иной защитный механизм (Blanchard, Arena, Pallmeyer, 1981), J. Nemiah (1975), возражая авторам, утверждающим, что алекситимия всего лишь новое название для давно известных феноменов (например, защит), показал разницу между алекситимическими расстройствами и защитными механизмами изоляции и отрицания, к которым они феноменологически близки. Он указал, в частности, что алекситимия, в отличие от изоляции и отрицания, не отвечает на психотерапевтические воздействия. Кроме того, изолированные аффекты, например у компульсивных пациентов, дифференцированны. Их конфликты хорошо поддаются. вербализации в противоположность таковым у алекситимиков. Отрицание же понимается как защитный механизм против восприятий реальности, тогда как алекситимика демонстрирует отсутствие эмоционального ответа на происходящие события.
Другим вариантом теоретического понимания алекситимии является определение ее как симптома дефекта развития. Полезными здесь оказываются представления эгопсихологии, теории объектных отношений (Blanck G., Blanck R.1979; Тауlоr, 1987), согласно которым алекситимики отличаются о невротиков уровнем психической организации. Неудивительно поэтому, как считают приверженцы этих теорий, что алекситимия была впервые выявлена у психосоматических больных которые демонстрируют значительные различия с невротиками в уровне и стиле психического функционирования.
Невротические пациенты обладают способностью описывать психологические трудности, межличностные проблемы в терминах фантазий, мыслей, чувств; у них специфические конфликты с людьми, но, в общем, они способны устанавливать теплые эмоциональные отношения; они достаточно легко вступают в коммуникацию, развивают положительный перенос и т. д. (Apfet, Sifneos, 1979). М. von Rad (1979) провёл тонкое детальное исследование различий невротических пациентов по особенностям выражения тревоги (смерти, увечья, вины, разлуки, стыда) и враждебности (направленной вовне, внутрь и амбивалентно). Было выявлено, что общее проявление тревоги и враждебности у невротиков сильнее. Существенно также то, что у психосоматических пациентов оказалась высока связь между тревогой разлуки и амбивалентной враждебностью, также как между тревогой стыда и враждебностью, направленной вовнутрь. Эти данные свидетельствуют в пользу гипотезы о ранних корнях психосоматических болезней (известно, что стыд — «древнее» чувство, связанное со страхом отвержения и неприятия).
Обнаружение алекситимии у наркоманов, алкоголиков, лиц с сексуальными перверзиями, которые с недавнего времени рассматриваются как страдающие ранней преневротической патологией, свидетельствует, может 6ыть, о том, что алекситимия — неспецифическое расстройство в переживании и прохождении эмоций, досимволический стиль психики, свойственный людям с менее организованной психической структурой (Taylor, 1987). Такое понимание объясняет многие клинические симптомы алекситимии и, в частности, использование незрелых психологических защит — отреагнрования отрицания, проективной идентификации, которые некоторыми авторами рассматриваются, не как защиты в традиционней смысле слова, а лишь как защитоподобное поведение, характерное для плохо структурированного преневротического уровня развития психики (Blanck G., Blanck R., 1979; Wise et al., 1991).
Чем же характеризуется такой уровень? J. Mc Dougall (1974) считает, что некоторые болезненные идеи и аффекты в данном случае скорее исключены из психики, а не подавлены или смещены. Инстинктивная энергия, «обходя» мозг из-за повреждения символической функции, прямо влияет на тело. Причины, этого могут корениться в расстройстве ранних материнско-детских отношений, вследствие чего Я-репрезентации не полностью дифференцируются от объектных репрезентаций, а символы могут существовать только в очень конкретизированной форме. С точки зрения J. Mc Dougall (1974), алекситимия — очень сильная защита против интрапсихической психотической тревоги, связанной с архаическим внутренним объектом.
Когнитивные проблемы алекситимиков этот же автор объясняет тем, что эго, не способное регулировать неприятные мысли, аффекты или фантазии, скорее разрушает их репрезентации. Результат — сверхпривязанность к предметам, событиям внешней реальности, которые заполняют внутреннюю брешь. Таким образом, для Mc Dougall алекситимический дефект означает раннюю преневротическую патологию и характеризуется досимволическим функционированием объектов и связанных с ними аффектов.
К пониманию алекситимии как архаического вида защит Н. Krystal (1979) добавляет понятия регрессии и психотравмы. Он объясняет алекситимический феномен, исходя из собственной генетической теории аффектов. Согласно ей, сущность эмоционального развития — это постепенные дифференциация, вербализация и десоматизация аффектов, находящихся в прямой зависимости от характера материнско-детских отношений, только внутри которых ребенок может усвоить паттерны зрелого аффективного поведения. Krystal указывает на самоочевидную связь между симптомами алекситимии и трудностями дифференциации, десоматизации, вербализации аффектов. Наблюдаемое у алекситимиков небрежение, невнимание к собственному телу и его сигналам, озабоченность деталями окружения понимается как следствие неразвитой способности использовать эмоции как знаки, обращенные к себе. Для этого автора алекситимия — это регрессия по линии аффективного развития, причина которой лежит в психотравме. Она может быть инфантильной или «катастрофической» (соответственно алекситимия — врожденной или вторичной), но это всегда сверхсильное непереносимое эмоциональное переживание, вызывающее страх эмоций, тенденцию к блокировке или потерю способности интегрировать их. Следствием такой психотравмы является соматизация аффектов, часто приводящая к болезни (Krystal, 1978, 1979).Когнитивные проблемы алекситимиков этот же автор объясняет тем, что эго, не способное регулировать неприятные мысли, аффекты или фантазии, скорее разрушает их репрезентации. Результат — сверхпривязанность к предметам, событиям внешней реальности, которые заполняют внутреннюю брешь. Таким образом, для Mc Dougall алекситимический дефект означает раннюю преневротическую патологию и характеризуется досимволическим функционированием объектов и связанных с ними аффектов.
Другой известный исследователь алекситимии — М. von Rad (1984) предполагает, что алекситимическая симптоматика является проявлением преневротической патологии и локализуется на стадии деформирования объектных репрезентаций. Он уточняет характер расстройства материнско-детских отношений, на критическое влияние которых указывает большинство авторов (Blanck G., Blanck R, 1979; Krystal, 1979; Taylor, 1987). Он утверждает, что матери алекситимичных пациентов демонстрируют, как правило, два паттерна доведения: сверхопекающее или латентно-отвергающее, причем довольно часто оба паттерна присутствуют вместе.
М. von Rad придерживается идей М. Mahler (1965) о ходе нормального развития ребенка, состоящего в постепенной сепарации от матери, в «вылуплении» из симбиотического союза. Происходит это при условии соответствующего помогающего поведения Матери, которая обучает ребенка способам саморегуляции, самоухода и самозащиты. Важную роль в этом процессе сепарации играет формирование объектных репрезентаций как результат дозированного Отсутствия матери (удовлетворяющего объекта). Сверхзащищающая мать, постоянно присутствующая и участвующая своими активными действиями в редукции напряжения потребностей ребенка, не позволяет ему развить самостоятельные стратегии кооперирования с возникающим напряжением. Именно поэтому для алекситимика недостижимы десоматизация и дифференциация аффектов, являющиеся результатом развития объектных репрезентаций и саморегулирующих стратегий.
Канадский исследователь G. Taylor, (1987) также локализует алекситимию на уровне примитивного ментального функционирования, определяя ее как дефектный коммуникативный стиль, основанный на расстройстве переживания и прохождения эмоций. Для объяснения генезиса алекситимии он использует идеи W. Bion (1968) о существовании в личности каждого человека ограниченного инкапсулированного участка примитивного ментального функционирования, регрессия до уровня которого под воздействием. стресса приводит к появлению алекситимических черт.
В начале изучения алекситимии Р. Sifneos предположил существование этнологической зависимости между этим синдромом и психосоматозом. Согласно современной точке зрения, и алекситимия и психосоматические болезни действительно имеют общее, существуя как симптомы преневротического уровня психического и личностного функционирования, обусловленного патологией детско-материнских отношений.
Лечение
Первые попытки лечения алекситимии были сделаны в рамках психодинамической психотерапии (Krystal, 1979; Neill; Sandifer, 1982, Rad von, 1984). Однако очень скоро стало очевидно, что алекситимичным больным этот метод не подходит. J. Ruesch (1948) открыл, что они не развивают типичного невротического переноса. J. Overbeck (1977) обнаружил, что алекситимики создают очень мало спонтанной речевой продукции во время психотерапевтического часа, не склонны обсуждать свои чувства, не проявляют интереса к терапевту к ожидают от него лечения по медицинской модели. Эти причины быстро приводят в тупик, и возникает высокий риск контрансферных противодействий. Кроме того, алекситимики часто патологически привязываются к психотерапевтической ситуации; используя ее как замещающий объект. Было также установлено, что психодинамическая психотерапия нередко приводит к аггравации соматических симптомов и риску психотической декомпенсации (Taylor, 1987). Групповая психодинамическая психотерапия, по мнению многих авторов, также неэффективна. J. Neill & Sandifer (1982) отмечают крайне незначительное улучшение состояния алекситимиков в ходе групповой работы. R. Pierloot, сравнивая эффективность кратковременной динамической терапии и систематической десенсибилизации, пришел к выводу, что первая не имеет никаких преимуществ перед последней (Pierloot, Vinck, 1977). Недавние данные A. Poulsen (1991) о достигнутом улучшении состояния алекситимиков в ходе кратковременной динамической терапий, казалось бы, противоречат более ранним результатам, однако следует учесть, что техника психодинамической работы в данном исследовании была существенно модифицирована и упор был сделан на развитие возможности безопасного выражения чувств.
Причины неэффективности психодинамической психотерапии в случае алекситимии кроются, очевидно, в несоответствии действительного психологического расстройства этих больных и лежащей в основе психодинамического подхода фрейдовской модели невроза.
Решению проблемы терапии могут помочь наблюдаемые у алекситимиков феномены «патологической привязанности к психотерапевту и всей ситуации лечения и наличие положительного эффекта при поддерживающем поведении терапевта (Krystal, 1979; Rad von, 1984).
Иначе говоря, речь идет о понимании алекситимии как феномена недостаточного уровня психологического развития. На сегодня достаточно устоялось мнение, что для успешной психотерапии алекситимиков пригодна модифицированная психодинамическая психотерапия, напоминающая работу с детьми, в которой поддерживающий момент и момент кларификации играют более важную роль, чем в психодинамической работе со взрослыми.
М. von Rad (1984) указывал, что в ходе психотерапии терапевт должен вести себя подобно матери, помогая пациенту продвигаться по пути достижения психологической зрелости, т, е. создавать символы, осознавать, наблюдать и организовывать аффекты вместо символической интерпретации снов, действий и физических симптомов. Конкретные исследования подтверждают эффективность такого подхода. Так, P. Garfinkle (1982) обнаружил, что алекситимия у лиц, страдающих анорексией, лучше лечится с помощью идентификации и переописывания их аффективных состояний, чем путем интерпретирования их бессознательных мотивов. J. Ruesch (1948) показал, что по крайней мере на ранней стадии лечения большое значение имеет установление доверительного контакта, медицинская терапия. С точки зрения J. Modell (1980), ситуация терапии может играть роль «переходного объекта», помогающего дальнейшему развитию «объективных» отношений пациента. G. Taylor (1987) указывает, что важно также обратить внимание на дефектный коммуникативный стиль алекситимика, который и должен стать фокусом работы на долгое время.
Н. Krystal (1979) выделил специфические задачи в психотерапии алекситимического расстройства: первая — помочь пациенту пронаблюдать природу своих особенностей; пациент должен увидеть, в чем его эмоции непохожи на эмоции других людей и начать учиться не замещать чувства физиологическими реакциями; вторая задача — помочь пациенту развить аффективную толерантность, указывая на его малоадаптивные способы переживания эмоций. Как отмечает в этой связи Н. Wolff (1977), терапевту полезно хотя бы на время принять способ экспрессии, свойственный больному.
Кроме модифицированной психодинамической психотерапии, в литературе имеются указания на применение других психотерапевтических средств. Так, J. Ruff представил данные об эффективности использования «внутреннего снимателя речи», который как бы говорит за пациента (цит. по: Neill, Sandifer, 1982). J. Schraa & J. Dick (1981) показали успешность лечения алекситимии с помощью гипноза.
Проанализировав известные способы психотерапевтического вмешательства в случае алекситимии, J. Neill&M. Sandifer (1982) дали следующие рекомендации: признать, что естественный отбор всегда будет иметь место и не всем алекситимичным больным возможно помочь; ставить скромные цели и не ожидать облегчения всех симптомов сразу; иметь в виду особую важность поддерживающего и принимающего стиля поведения, не провоцирующего тревоги.
Заключение
Разумеется, в кратком обзоре невозможно описать все результаты исследований алекситимии. За относительно короткий срок изучение этого феномена превратилось в достаточно разработанную предметную область. Вместе с тем очевидно, что накопленный к настоящему времени багаж теоретических и эмпирических данных достаточно неоднороден и противоречив.
Понятие алекситимии не отвечает на один из важнейших вопросов психосоматики — вопрос о «выборе органа», т. е. не объясняет причин и механизмов конкретных психосоматических болезней, указывая в общем, виде на возможность патологического влияния немедиированных эмоций на телесное функционирование.
Пожалуй, главным остается вопрос о статусе феномена. Является ли алекситимия отдельной психопатологической единицей со специфическими механизмами развития функционирования, либо это комплекс феноменологических проявлений давно известных нарушений? Анализ литературы показывает, что все-таки в алекситимии чаще всего видят не самостоятельную категорию, обладающую объяснительными возможностями, а род защитного механизма либо по подобию отрицания, либо как архаическое защитоподобное поведение.
Следует отметить в этой связи, что наблюдавшиеся нами у здоровых испытуемых или больных психосоматозами различные сочетания симптомов, обычно описываемых как алекситимические, всякий раз могли быть поняты в контексте исследовательской или психотерапевтической работы либо как проблемы контакта, либо как проявление привычного защитного стиля, либо как признаки низкого образовательного уровня и т. д. Конечно, эти наблюдения носят сугубо предварительный характер, но и они свидетельствуют скорее в пользу предоставления об алекситимии как удачном названии комплекса проявлений, каждый раз нуждающихся в отдельном изучении и объяснении. В этой связи хотелось бы отметить, что современные идеи об уровнях психического функционирования, о влиянии дефектов развития на различные аспекты эмоциональной сферы человека, понятия саморегуляции и механизмов ее становления открывают, как представляется, перспективные возможности понимания синдрома алекситимии.
Tilda Publishing