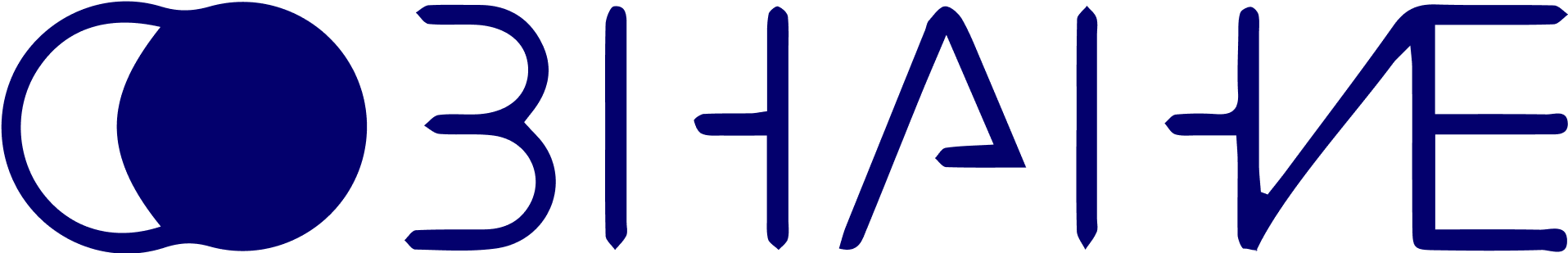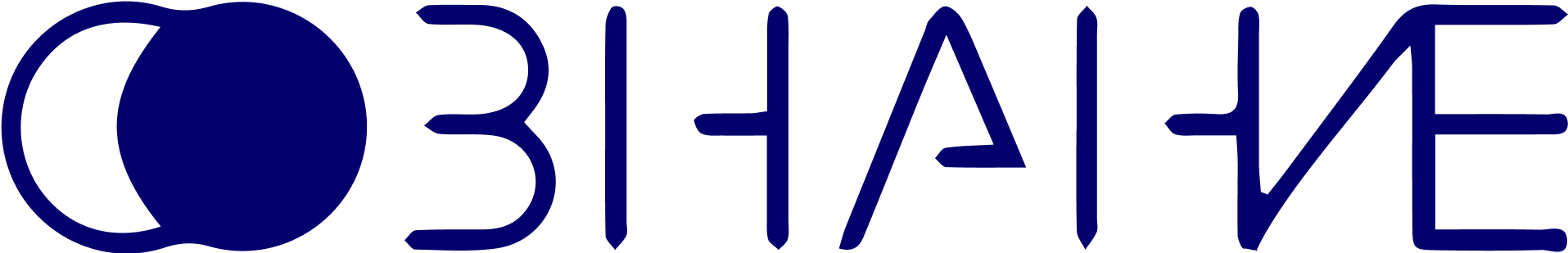Доклад был сделан на открытом семинаре Московской Группы Психоаналитиков, Москва, 3 октября 2021
Горацио Этчегоэн пишет в предисловии своей книги «Основы психоаналитической техники»: «Когда кто-то увлечен своей работой, он стремится расширить круг своего знания о том, как она должна быть выполнена». Мои собственные вопросы «как» — это вопросы о психоаналитической помощи пациентам с психиатрическими диагнозами, поскольку в силу специфики моей работы с ними я сталкиваюсь чаще всего. Я решила сфокусироваться на пациентах с депрессиями. Это одно из самых распространенных страданий в мире и для любого практикующего психоаналитика.Recently, manufactured steel and aluminum have also been used. The wall may have places to attach belay ropes, but may also be used to practise lead climbing or bouldering. Each hole contains a specially formed t-nut to allow modular climbing holds to be screwed onto the wall. With manufactured steel or aluminum walls, an engineered industrial fastener is used to secure climbing holds. The face of the multiplex board climbing surface is covered with textured products including concrete and paint or polyurethane loaded with sand. In addition to the textured surface and hand holds, the wall may contain surface structures such as indentions (incuts) and protrusions (bulges), or take the form of an overhang, underhang or crack. Some grips are formed to mimic the conditions of outdoor rock, including some that are oversized and can have other grips bolted onto them.
«Депрессия — это то в пациенте, что вызывает сильный эмоциональный отклик, часто зеркальные чувства беспомощности и безнадежности, но одновременно и мотивирует на поиски ответа на вопрос, как им помочь»
Действительно, классическая психоаналитическая техника, которая досталась нам в наследство от Фрейда и которая с такой тщательностью исследуется в книге Г. Этчегоэна, предназначена для лечения невротических пациентов с истерической симптоматикой, с фобическими расстройствами и, может быть, частично с неврозами навязчивых состояний. Что касается депрессии, то, с психоаналитической точки зрения пациенты с таким диагнозом относятся, как мы скажем сегодня, к пациентам пограничного уровня с со свойственными этому уровню структуры личности разрывами в эго, дефектами суперэго, нарушениями в объектных отношениях, патологией в сфере регуляции аффектов.
Такое понимание депрессии заложил еще Фрейд в знаменитой «Скорби и меланхолии» 1917 г. Он утверждал, что если «на психическом уровне меланхолия отличается глубоко болезненным дурным настроением, потерей интереса к внешнему миру, утратой способности любить, заторможенностью всякой продуктивности и понижением чувства собственного достоинства», то с точки зрения механизма образования депрессия подразумевает, по Фрейду, факт утраты объекта, амбивалентность отношений с утраченным объектом и вследствие этого посттравматическую регрессию либидо в «Я». После этой регрессии либидо, как пишет Фрейд, «…любовные отношения представляется сознанию как конфликт между частью „Я“ и критической инстанцией…». Помимо этих фрейдовских идей и сама логика подсказывает нам ответ на вопрос об уровне патологии пациентов с депрессиями — ведь у 90% из них фиксируется ранняя травматизация в основном в виде потери близкого взрослого. Такая ранняя сепарация по определению ведет к нарушениям в сфере управления эмоциями, сфере формирования идентичности, а также в системе привязанности, задавая рисунок пограничной структуры личности.
Если это так, то вопрос, который должен у нас вставать при встрече с жалобами на депрессивное состояние в ходе предварительных сессий с пациентом или уже в процессе работы с ним — это вопрос о том, как должна быть изменена традиционная техника работы с пациентом, чтобы она соответствовала его психическому статусу — статусу не невротического, а как минимум пограничного случая со структурными нарушениями в отношении целостности я и отношений с объектами, а также нарушениями регуляции аффектов.
Этчегоэн, обсуждая эту проблему в 2 главе своей книги «Показания и противопоказания согласно диагнозу и другим характеристикам», упоминает предостережение Фрейда о том, что анализ может нанести вред, если его применять неправильно. Во многом с учетом этого еще в 50-е годы были сформулированы важные положения о базовой аналитической технике и параметрах, то есть отклонениях от базовой техники. Для случая невроза, как мы все помним, при котором перенос разворачивается сам, спонтанно и эго в целом не повреждено, базовой техникой является интерпретация в переносе. Другими словами, если эго сохранило свою целостность, оно будет максимально использовать поддержку, которую получает от аналитика в форме интерпретации. Единственная проблема — техническая — найти ту интерпретацию, которая предоставит эго на соответствующих этапах лечения максимальную поддержку.
Если же эго деформировано, «расщеплено» в результате работы защит от переживания потери объекта, как и в случае депрессии, то техника не может оставаться прежней, не вредя пациенту. С того времени и до сегодняшних дней ведется интенсивная дискуссия по поводу того, какой должна быть полезная для не невротических случаев техника.
Например, Курт Айсслер в 1953 году напоминал в своей работе о параметрах техники, что сам Фрейд прибегал к командам, обещаниям, директивам, конкретной помощи в работе со своими сильно нарушенными пациентами, держа в уме, однако, возможность отмены таких вмешательств с помощью интерпретации. Сам Айсслер, в частности, отдавал дань объяснению, указывая, что важно найти и продемонстрировать пациенту, какая функция или какие функции эго были нарушены и каким образом. И здесь заслуживает уважения научная честности наших предшественников, не обходивших вопрос о том, приводят ли такие вмешательства к структурное изменение психики, или мы имеем дело с послушанием и поверхностной имитацией мышления психоаналитика.
Что же мы сегодня с учетом накопленного опыта можем сказать о принципах психоаналитической работы с депрессиями, если стоит задача произвести структурное изменение и закрыть саму возможность разворачивания депрессивного состояния в будущем?
Как мне кажется, ответ на этот вопрос состоит в том, держим ли мы в голове при работе с депрессивным пациентом рабочую модель его структурного повреждения, а именно, два важных аспекта его внутреннего мира: первый аспект — это как раз что мы имеем дело с пограничным случаем, что требует особого подхода к стилю общения, и второй аспект- это характер травмы, а именно преждевременная потери объекта, предопределяющий фокусирование наших вмешательств на проработке переживании сепарации, в том числе быстрой регрессии из объектного мира в нарциссический. И тогда целью психоаналитической работы становится восстановление способности эго оставаться цельным и продолжать либидозное инвестирование объекта в условиях экзистенциальной амбивалентности любых отношений.
Говоря о их способе переживать сепарацию, надо отметить, что депрессивные по своей психодинамике люди вне выраженных депрессивных фаз пытаются восстановить свою утраченную способность любить и действовать посредством получения волшебной любви своего объекта. Как однажды сказал один пациент-меланхолик: «Любовь для меня — кислород». Поэтому Эдит Якобсон в 1954 году в статье о работе с депрессиями писала, что, депрессивные пациенты либо сразу развивают эмоциональный отклик на терапевта или вообще нет. Аналитики, которые по своей природе довольно отстранены, похоже, чаще испытывают трудности в лечении депрессивных пациентов. Однако только тогда, когда центром депрессивной динамики становится аналитик, даже ценой оскудения других эмоциональных связей пациента, лечение получает шанс на настоящий успех. Если эмоциональный отклик произошел, то типичная динамика работы с депрессивным пациентом выглядит как резкое улучшение его состояния в результате идеализации понимающего и отзывчивого аналитика и получения того самого кислорода для жизни. Но это происходит только при правильном взаимодействии с пациентом.
Это подразумевает упор на отзеркаливание текущего аффекта, простоту и краткость комментариев, соответствующие низкому уровню ментализации пациента, связывание действий и реакций с переживаниями, фокусировка на том, что имеет эмоциональную ценность для самого пациента сейчас, то есть верификация переживаний пациента, готовность признать свою роль в возникшем непонимании, которую пациент переживает как потерю объекта в микро-моменте — базовые принципы, с которыми подробней можно познакомиться в работах Бейтмана и П.Фонаги.
Иногда вся прибыль, которую такие пациенты могут получить от лечения, может быть в течение недель или месяцев или даже лет — это не больше, чем поддержка, которая может помочь им преодолеть депрессию. В любом случае этим пациентам нужна не столько частота и продолжительность сеансов, сколько достаточная спонтанность и гибкая адаптация к их уровню настроения, теплое понимание и, особенно, непоколебимое уважение; отношения, которые не следует путать с излишней добротой, сочувствием, заверением и т. д.
Что мне кажется важным во всех пограничных и пре-психотических случаях, так это не поощрять и отказываться от преждевременного, изолированного, фрагментированного образования глубокого травматического материала, архаических фантазий — материала, который может возникнуть очень рано, без адекватных аффектов, поскольку сила эго пограничного пациента не так велика, чтобы этот материал интегрировать на ранних этапах, пока регуляция аффектов еще не является стабильной. В какой-то момент, и это предсказуемо, идеализация начнет сменяться на разочарование, особенно в связи с фактическими разлуками или с ментальными разрывами связи: аналитик не откликнулся, не понял, он устал и стал эмоционально неотзывчивым и т. п. Этот очень важный этап проработки депрессивной динамики в переносе, который чреват негативными терапевтическими реакциями, возникновением тяжелых состояний депрессии вследствие нарциссического отступления.
Якобсон пишет, что в периоды угрожающей нарциссической абстиненции нам, возможно, придется проявлять очень активный интерес и участие в их повседневной деятельности, особенно в их сублимациях, постоянно напоминая о себе как о живом объекте, взывающем к контакту. Но еще более важно, как отмечает, например, М. Болебер, комментировать потерю образа понимающего, эмоционально доступного аналитика и автоматическое включение защитной регрессии вследствие разочарования или в страхе разрушить своим гневом пока все же живой объект. Отказ от нарциссической депрессии происходит в результате успешного совместного проживания гнева, обид и злости на покинувший объект в лице аналитика. И здесь спонтанные живые реакции, в том числе и раздражение, и постановка границ также играют свою роль в качестве доказательства жизнеспособности объекта. Но до того, как фантазии вокруг потери объекта станут доступными для проработки в переносе, необходимо сделать огромную работу по нормализации регуляции аффектов, дефектов эго и суперэго, без чего любые интерпретации глубинного бессознательного материала окажутся ретравматизирующими.
Хочу процитировать Глена Габбарда, одного из самых известных современных аналитиков, который писал, что мы все на своем горьком опыте узнаем, что психоанализу нельзя научиться по книгам, но все же надеюсь, что эта статья простимулирует интерес к факторам успешной работы с депрессивными пациентами в рамках психоанализа.
Успех в работе с депрессивными людьми связан с пониманием связи с травматическим опытом ранних потерь
В качестве небольшого вывода хотелось бы сказать, что в основном терапевтический успех в работе с депрессивными людьми связан с пониманием связи этого заболевания с травматическим опытом ранних потерь, опытом переживания крайней степени беспомощности, безнадежности, страха, ужаса, убежденности в собственной вине, а затем формирования защиты в виде магической надежды на все исцеляющий объект в качестве средства психического выживания. К сожалению, типичным следствием любовного разочарования является быстрая нарциссическая регрессия пациента, преодолеть которую, возможно, способна только работа в переносе, но с учетом понимания всех особенностей психического устройства пациента.